Рассказы
Что едят вороны?
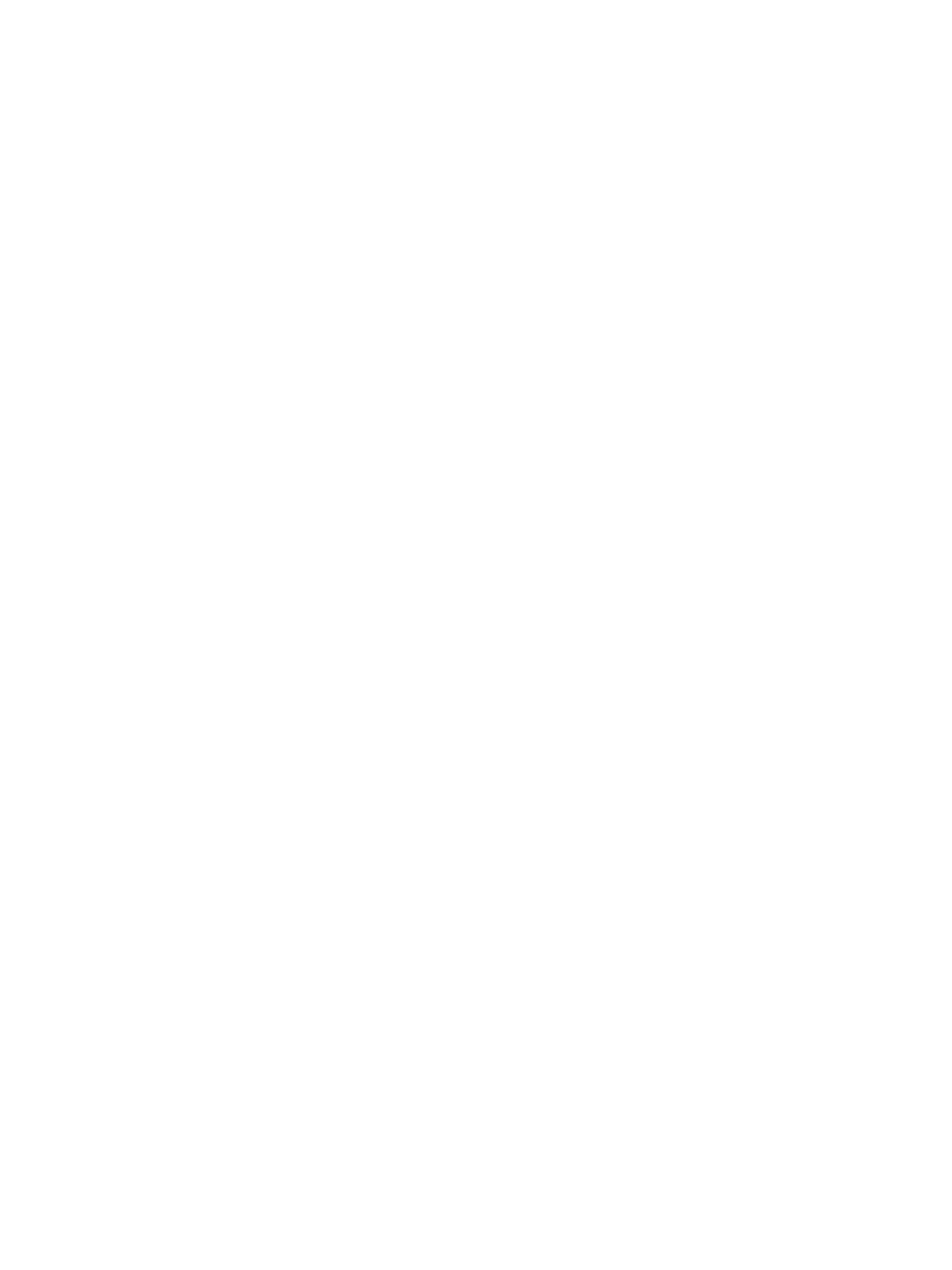
Художник Валентина Симонова
Я перехожу дорогу и попадаю на другую сторону бульвара. Тротуары в снегу. Но весна уже дает знать о себе, улыбаясь мне навстречу щекочущими лучами восшедшего над высоткой торгового центра солнца, проталинами на обочинах, оживленным чириканьем стаек наглых городских воробьев.
И я, возбужденная и напряженная до крайности, тем не менее, ликую сердцем: сегодня я все сделаю правильно, и он, наконец, убедится в моей искренности и благонадежности. Вчера он вернулся после недельного отсутствия, сообщив, что готов поверить в меня снова, готов дать второй шанс. Теперь я внимательна как никогда, я ничего не упущу из виду, я использую шанс, и тогда смело смогу рассчитывать на дальнейшее развитие отношений, как предпочитает выражаться Алекс, подразумевая предложение с его стороны.
Я покидаю сквер и направляюсь к высотке торгового центра. Здесь я куплю все, что нужно: от продуктов для предстоящей вечеринки до нового платья. И еще, совсем забыла, заодно придется поискать корм для моего нового случайного выкормыша – вОрона-найденыша. Не было забот – так угораздило меня его подобрать!
Как-то дорогой домой в том же сквере я увидала, как в окружении городских падальщиков – голубей облепленный комьями грязного снега большой чернявый ворон в отчаянной попытке оторваться от асфальта приседает на одно крыло, другое- поврежденное, по-видимому, не раскрывается, тяжелые горловые звуки не дают голубям приблизиться, и те замирают в ожидании, наблюдая бессилие раненой птицы. К досаде воркующих в сторонке халявщиков, я подняла ворона с земли и унесла к себе, особо не раздумывая, что с ним делать дальше.
Ворон сносно освоился в моей квартире, бегал по полу, смешно цепляя обивку кресла, взбирался на него, не в состоянии взлететь – поврежденное крыло никак не желало раскрываться. Проблема пришла, откуда не ждали: ворон ничего не ел, что бы я ему не предложила из своих запасов: курицу, овощи, яйца – отказ и чистое презрение. «Проголодается – съест что дам», - думала я. Но не тут-то было! Три дня ворон жил у меня, и все три дня ничего не ел.
А тут как раз вернулся Алекс, с недоумением покосился на ворона, но корить меня не стал, сказал только, чтобы я приобрела для него клетку. Зоомагазин – одна из точек на моем маршруте по торговому центру, где я собиралась наряду с кормом захватить и клетку.
Корм, клетка…Не это главное. Важно ничего не забыть для вечеринки. Придут друзья Алекса. Эмма, да, она же вегетарианка! Значит, свежие овощи, фрукты и конечно же – авокадо! Только бы не забыть! Цепляю в продуктовом корзину, закидываю зелень и прочие полезности, перехожу к мясному отделу, там отовариваюсь по полной, затем спиртное… Рука тянется к бутыли красного вина. Неприятно колет сердце. Печальные воспоминания. Красно вино – будь оно неладно! Один лишний бокал – и я треплюсь как заведенная – не остановить! Алексу за меня стыдно, но он молчит, терпит. Так и будет молчать, когда останемся вдвоем, насупится, станет собирать вещи. Я ему:
- Что я сделала? На что ты обиделся?
Молчит, я сама должна догадаться.
- У тебя же рот не закрывался весь вечер! – позже скажет он. – Все слушали только тебя. Мои друзья слушали тебя! Ты мне и слова не дала сказать! Опустила меня в глазах моих же друзей! Неужели ты сама не понимаешь?
Он продолжит собирать вещи, я продолжу оправдываться, извиняться.
- Это все вино, лишний бокал, - скажу я.
Именно! Больше никакого вина, никаких лишних бокалов. Хватит уже! Неужто и в самом деле трудно помолчать? Пускай Алекс побудет в центре внимания, распустит перед друзьями хвост, почувствует себя главным. Ему должно быть комфортно со мной. Иначе мы так и будем ходить по кругу. Мы вместе уже три года, и все три года одно: живем, я косячу, он обижается, тут же уходит, я досаждаю ему звонками, молю простить, он, поверив мне, возвращается, но спустя короткое время я вновь рушу его надежды, вызывая в нем лишь разочарование, обиду и злость.
Я отвожу руку от искусительной бутыли, беру виски для Алекса и двигаюсь дальше. Не забывая о десертах, с полной тележкой прохожу к кассе, расплачиваюсь. Покончив с продуктами, поднимаюсь на второй этаж. За стеклом павильона улыбается девушка, над ее головой плакат – рекламный баннер турагентства: роскошную ядовито-зеленую пальму вот-вот накроет кислотно-синяя морская волна вместе с сидящим под ней семейством: папаша – красавец Кен в облегающих джинсах и его длинноногая Барби под ручку со светловолосым сыном, - все улыбаются с одинаково радостным безумием. «Наверное, так должна выглядеть идеальная семья», - думаю я. Понимая, что сегодня, возможно, приближусь к идеалу, ускоряю шаг.
Но что-то заставляет притормозить – скверные мысли как пронырливые кроты медленно прогрызают путь из укромных уголков памяти.
- Мы чудесно отдохнем в этом отеле! – говорил Алекс, любезничая с барышней из турагентства. – Сориентируете по стоимости?
Барышня назвала цену.
- Идет! – соглашается Алекс. – Сейчас оплатим.
Тем временем, я, предвкушая долгожданный отпуск у моря вдвоем, расслабленно, сидя в сторонке, попивала латте. Алекс начал отсчитывать купюры. Его вопросительный взгляд в мою сторону заставил напрячься.
- Что сидишь? – произнес он. – Я оплатил. Твоя очередь!
Внутри у меня все сжалось. Не то, чтобы я не была в состоянии за себя заплатить – я прилично зарабатываю, но, коль скоро мы собрались ехать вместе как пара, я в глубине души надеялась, что Алекс заплатит и за меня. У моих подруг так и происходит. У подруг – не у меня. И тут еще эта барышня – турагент с такой издевкой на меня посмотрела, что мне стало стыдно. Пряча глаза, я спешно вытряхнула наличные из кошелька. Алекс взял меня под руку, он был так весел и воодушевлен, смеялся, шутил, что я подавила обиду. Я улыбалась ему в ответ, радуясь его хорошему настроению, и сама вскоре уверилась в искренности своих чувств.
Одно дурацкое воспоминание тянет за собой другое. Я кладу пакеты на мраморную плитку и замираю, уставившись на витрину магазина одежды – там я собиралась купить себе платье для вечеринки. Но что мы будем делать? Выпьем, пойдем танцевать. И все закончится, как тогда в турецком клубе, куда меня вытащил Алекс. Где из шумных колонок звучал рэп, танцевали хип-хоп, а я стояла в углу с «постной физиономией», как позже заметил Алекс, обвиняя меня в том, что я испортила вечер. «Почему бы тебе не расслабиться? Все же в кайф! Взгляни на других!» Вся эта долбежка по голове, рваный ритм безо всякой мелодии – как расслабиться, когда и тело, и дух отторгают саму атмосферу, и хочется одного – уйти подальше и не возвращаться?
Скорее всего сегодня вечером меня ждет то же испытание, на счастье, мы не в клубе, а у меня дома, авось, стены помогут. И ворон…Точно! Когда все пойдут танцевать, я отвлекусь на ворона – попробую его покормить, - может и поест, наконец!
Маленькое черное платье точь-в-точь по моей фигуре в самом центре витрины, как на заказ! Подзываю консультанта, иду в примерочную. Так и есть – сидит идеально, хоть картину пиши! Но грусть съедает, уныло на душе. Пройдет! Разве есть причины для грусти? Утомилась я, да и только. И чуть было не забыла про вороний корм…и клетку, да, клетку!
Обрастая еще одним пакетом, возвращаюсь обратно тем же путем, следую мимо павильона турагентства с умилительным рекламным баннером. Умилительный - должен умилять, но меня отчего-то кидает в дрожь: кислотная пена волн, она того и гляди накроет счастливую семейку – как только они не замечают очевидного? Улыбаются, от того кажутся еще безумнее, еще страшнее. И это мой идеал?!
От радостного возбуждения не остается и следа. Руки опускаются, я еле волочу за собой пакеты, будто не я, а все эти вещи куда-то меня ведут на шуршащем поводке и в строгом ошейнике. Все три года я суечусь, задабриваю Алекса подарками, которые он при каждой ссоре по привычке швыряет мне в лицо, обесценивая их и меня заодно, как припадочная визжу от восторга, когда он прощает мои косяки, и впадаю в тяжелую депрессию с каждым его уходом. Хотя давным-давно понимаю, что этот человек ни секунду в жизни меня не любил, не любит и не полюбит никогда, ибо на любовь не способен вовсе. А что я? Разве я не вижу его истинную суть? Разве я слепа от любви к нему? Нет, правда, нет. Вся моя суета от того, что мне безумно жаль этих трех лет потраченного на Алекса времени и от злости, разумеется, от злости: должны мои старания в конце концов принести плоды или мне так и оставаться вечной невестой? И поздно отступать: Алекс или другой такой же – не все ли равно? Все так живут – терпят, притворяются, улыбаясь, не замечают, как растят за своими спинами убийственную волну – ту, что рано или поздно поглотит дух.
Я прикусываю губу и, собравшись, подволакиваю пакеты к зоомагазину. Девушка-продавец живо интересуется, что мне угодно.
- Не подскажете: чем питаются вороны? – спрашиваю я на выдохе, себе под нос.
На удивление, девушка расслышала вопрос. Она не теряется и с воодушевлением начинает тараторить, увлекая меня за собой вглубь магазина к аккуратным полочкам.
- У нас имеется прекрасный корм для уличных птиц, подходит всем пернатым, в его составе все необходимое: семена подсолнечника, просо, овес, морковь, арахис, лен и даже ягоды рябины. Взгляните!
Девушка снимает с полки полиэтиленовый пакетик, раздутый от избытка разноцветных семян.
- Беру. То, что нужно, - безучастно отвечаю я, начисто позабыв о клетке.
Оставляю торговый центр. Смелый весенний ветер, врываясь в распахнутые двери, обжигает лицо. Меня бросает в жар, но онемевшими кистями не запахнуть пальто, приходится нести тяжесть через все светофоры, сквер. Вспоминаю о клетке – плюю, нет, смачно харкаю наземь (благо, никто не видит). И правда – плевать, донести ее не хватит рук.
Затылок ноет, будто камень привязан к шее, тянет вниз. Я представляю, каких мучений будет стоить улыбнуться, дабы не испортить Алексу настроение, сколько сил будет потрачено на приготовления к вечеру: еда, стол, чертов макияж. Как долго я буду стоять, прикинувшись бессловесной, но на зависть прекрасной статуей, боясь обидеть кого неосторожным словом, считая часы в ожидании завершения вечера и заветной похвалы, вроде: «Сегодня ты была безупречна. Можешь, если постараешься!».
Уже и дом недалеко. Подъезд. Кто-то придерживает дверь – спасибо на том! Растягиваю губы в улыбке, готовясь гримасничать, изображая радостное приветствие. Отворяю дверь квартиры.
- Алекс, я вернулась! – восклицаю я насколько возможно радостнее, одновременно ищу глазами ворона в боязни ненароком на него наступить. Из квартиры идет неприятный, слегка приторный запах – не обращаю внимание, мало ли что.
Странно, но Алекс не отзывается. Не может быть, чтобы он до сих пор дрых – это не в его привычке. А вдруг ушел? Сердце захватывает нестерпимая боль. И ворона тоже не видать. Одна догадка ужаснее другой: что, если птица довела Алекса своим карканьем, и он выгнал ворона, выбросил в окно, а затем ушел и сам, обидевшись по обыкновению?
Бросаю пакеты в прихожей и, не раздеваясь, прохожу в комнату: тут все вверх дном. Словно смерч пронесся: штора сорвана, за ней сквозь голую оконную раму врывается слепящий полуденный свет, вся мебель перевернута, книги, ноутбук и наушники Алекса грудой хлама валяются на полу.
Перевожу взгляд на кровать, козырьком прикладываю ладонь ко лбу, защищаясь от назойливого света. Аккуратно переступая через разбросанные вещи, оказываюсь у кровати и тотчас натыкаюсь на пятку Алекса.
«Значит не ушел», - первая мысль приходит в голову, а за ней отчего-то, как той кислотной волной с дурацкого плаката захлестывает грусть, обреченность и следом другая безотчетная мысль: «Не ушел, и ничего не изменить».
Не сразу я понимаю, что тот неприятный запах, который я ощутила с порога, при приближении к Алексу заметно усилился. Лишь теперь я, отвлекшись от мыслей, заставляю себя рассмотреть спящего. И…. истинная, самая что ни на есть подлинная волна ледяного ужаса захватывает меня целиком, я с трудом верю тому, что вижу.
Алекс, голый по пояс, с раскинутыми крестом руками лежит посреди постели, а на животе его как ни в чем не бывало топчется ворон. ЧуднО пританцовывая, ворон то поднимает, то опускает голову, с рваным звуком выдергивая из правого бока Алекса – нет, не спящего, а совершенно мертвого Алекса, красновато-коричневые куски. Я застываю с открытым ртом, ворон на миг отрывается от своей трапезы и глядит мне в глаза: взгляд птицы глубок, черен, проницателен. Ворон отрывает очередной кусок и с диким карканьем, что тут же вырывает меня из оцепенения, делает взмах совершенно здоровыми крыльями и разящей черной стрелой пронзает окно, исчезая в лучах молодого солнца.
Оконное стекло разлетается тысячами осколков, и холодный ветер кружит их по подоконнику в блестящем вальсе. Я смотрю, как из дыры в печени Алекса на белую простынь стекает бурая кровь, и пытаюсь уложить в голове случившееся. Наверное, я не умна, раз не нахожу ответа. А кто найдет? Случившееся – против всяких правил.
Начинаю смеяться: весело, звонко, легко. Нелепо и страшно, но впервые за долгие годы я наслаждаюсь собственным искренним смехом! «Какая удача, что я не купила клетку!» - хохочу я в голос. Раз жизнь сама нарушает установленные ею правила, как прикажете им следовать?
Я понятия не имею, что произошло в квартире за время моего отсутствия. Но теперь я знаю доподлинно: вечеринка не состоятся. Не состоится ни сегодня, ни когда бы то ни было еще. Не будет игры в молчанку, тупого хип-хопа и дежурных улыбок, фальшивых масок в ожидании предложения – не бывать этому никогда!
А чему в таком случае быть? О том я так же не имею ни малейшего понятия. Повторюсь, не умна. Но с достоверностью могу утверждать одно: теперь мне известно наверняка, что едят вороны…
И я, возбужденная и напряженная до крайности, тем не менее, ликую сердцем: сегодня я все сделаю правильно, и он, наконец, убедится в моей искренности и благонадежности. Вчера он вернулся после недельного отсутствия, сообщив, что готов поверить в меня снова, готов дать второй шанс. Теперь я внимательна как никогда, я ничего не упущу из виду, я использую шанс, и тогда смело смогу рассчитывать на дальнейшее развитие отношений, как предпочитает выражаться Алекс, подразумевая предложение с его стороны.
Я покидаю сквер и направляюсь к высотке торгового центра. Здесь я куплю все, что нужно: от продуктов для предстоящей вечеринки до нового платья. И еще, совсем забыла, заодно придется поискать корм для моего нового случайного выкормыша – вОрона-найденыша. Не было забот – так угораздило меня его подобрать!
Как-то дорогой домой в том же сквере я увидала, как в окружении городских падальщиков – голубей облепленный комьями грязного снега большой чернявый ворон в отчаянной попытке оторваться от асфальта приседает на одно крыло, другое- поврежденное, по-видимому, не раскрывается, тяжелые горловые звуки не дают голубям приблизиться, и те замирают в ожидании, наблюдая бессилие раненой птицы. К досаде воркующих в сторонке халявщиков, я подняла ворона с земли и унесла к себе, особо не раздумывая, что с ним делать дальше.
Ворон сносно освоился в моей квартире, бегал по полу, смешно цепляя обивку кресла, взбирался на него, не в состоянии взлететь – поврежденное крыло никак не желало раскрываться. Проблема пришла, откуда не ждали: ворон ничего не ел, что бы я ему не предложила из своих запасов: курицу, овощи, яйца – отказ и чистое презрение. «Проголодается – съест что дам», - думала я. Но не тут-то было! Три дня ворон жил у меня, и все три дня ничего не ел.
А тут как раз вернулся Алекс, с недоумением покосился на ворона, но корить меня не стал, сказал только, чтобы я приобрела для него клетку. Зоомагазин – одна из точек на моем маршруте по торговому центру, где я собиралась наряду с кормом захватить и клетку.
Корм, клетка…Не это главное. Важно ничего не забыть для вечеринки. Придут друзья Алекса. Эмма, да, она же вегетарианка! Значит, свежие овощи, фрукты и конечно же – авокадо! Только бы не забыть! Цепляю в продуктовом корзину, закидываю зелень и прочие полезности, перехожу к мясному отделу, там отовариваюсь по полной, затем спиртное… Рука тянется к бутыли красного вина. Неприятно колет сердце. Печальные воспоминания. Красно вино – будь оно неладно! Один лишний бокал – и я треплюсь как заведенная – не остановить! Алексу за меня стыдно, но он молчит, терпит. Так и будет молчать, когда останемся вдвоем, насупится, станет собирать вещи. Я ему:
- Что я сделала? На что ты обиделся?
Молчит, я сама должна догадаться.
- У тебя же рот не закрывался весь вечер! – позже скажет он. – Все слушали только тебя. Мои друзья слушали тебя! Ты мне и слова не дала сказать! Опустила меня в глазах моих же друзей! Неужели ты сама не понимаешь?
Он продолжит собирать вещи, я продолжу оправдываться, извиняться.
- Это все вино, лишний бокал, - скажу я.
Именно! Больше никакого вина, никаких лишних бокалов. Хватит уже! Неужто и в самом деле трудно помолчать? Пускай Алекс побудет в центре внимания, распустит перед друзьями хвост, почувствует себя главным. Ему должно быть комфортно со мной. Иначе мы так и будем ходить по кругу. Мы вместе уже три года, и все три года одно: живем, я косячу, он обижается, тут же уходит, я досаждаю ему звонками, молю простить, он, поверив мне, возвращается, но спустя короткое время я вновь рушу его надежды, вызывая в нем лишь разочарование, обиду и злость.
Я отвожу руку от искусительной бутыли, беру виски для Алекса и двигаюсь дальше. Не забывая о десертах, с полной тележкой прохожу к кассе, расплачиваюсь. Покончив с продуктами, поднимаюсь на второй этаж. За стеклом павильона улыбается девушка, над ее головой плакат – рекламный баннер турагентства: роскошную ядовито-зеленую пальму вот-вот накроет кислотно-синяя морская волна вместе с сидящим под ней семейством: папаша – красавец Кен в облегающих джинсах и его длинноногая Барби под ручку со светловолосым сыном, - все улыбаются с одинаково радостным безумием. «Наверное, так должна выглядеть идеальная семья», - думаю я. Понимая, что сегодня, возможно, приближусь к идеалу, ускоряю шаг.
Но что-то заставляет притормозить – скверные мысли как пронырливые кроты медленно прогрызают путь из укромных уголков памяти.
- Мы чудесно отдохнем в этом отеле! – говорил Алекс, любезничая с барышней из турагентства. – Сориентируете по стоимости?
Барышня назвала цену.
- Идет! – соглашается Алекс. – Сейчас оплатим.
Тем временем, я, предвкушая долгожданный отпуск у моря вдвоем, расслабленно, сидя в сторонке, попивала латте. Алекс начал отсчитывать купюры. Его вопросительный взгляд в мою сторону заставил напрячься.
- Что сидишь? – произнес он. – Я оплатил. Твоя очередь!
Внутри у меня все сжалось. Не то, чтобы я не была в состоянии за себя заплатить – я прилично зарабатываю, но, коль скоро мы собрались ехать вместе как пара, я в глубине души надеялась, что Алекс заплатит и за меня. У моих подруг так и происходит. У подруг – не у меня. И тут еще эта барышня – турагент с такой издевкой на меня посмотрела, что мне стало стыдно. Пряча глаза, я спешно вытряхнула наличные из кошелька. Алекс взял меня под руку, он был так весел и воодушевлен, смеялся, шутил, что я подавила обиду. Я улыбалась ему в ответ, радуясь его хорошему настроению, и сама вскоре уверилась в искренности своих чувств.
Одно дурацкое воспоминание тянет за собой другое. Я кладу пакеты на мраморную плитку и замираю, уставившись на витрину магазина одежды – там я собиралась купить себе платье для вечеринки. Но что мы будем делать? Выпьем, пойдем танцевать. И все закончится, как тогда в турецком клубе, куда меня вытащил Алекс. Где из шумных колонок звучал рэп, танцевали хип-хоп, а я стояла в углу с «постной физиономией», как позже заметил Алекс, обвиняя меня в том, что я испортила вечер. «Почему бы тебе не расслабиться? Все же в кайф! Взгляни на других!» Вся эта долбежка по голове, рваный ритм безо всякой мелодии – как расслабиться, когда и тело, и дух отторгают саму атмосферу, и хочется одного – уйти подальше и не возвращаться?
Скорее всего сегодня вечером меня ждет то же испытание, на счастье, мы не в клубе, а у меня дома, авось, стены помогут. И ворон…Точно! Когда все пойдут танцевать, я отвлекусь на ворона – попробую его покормить, - может и поест, наконец!
Маленькое черное платье точь-в-точь по моей фигуре в самом центре витрины, как на заказ! Подзываю консультанта, иду в примерочную. Так и есть – сидит идеально, хоть картину пиши! Но грусть съедает, уныло на душе. Пройдет! Разве есть причины для грусти? Утомилась я, да и только. И чуть было не забыла про вороний корм…и клетку, да, клетку!
Обрастая еще одним пакетом, возвращаюсь обратно тем же путем, следую мимо павильона турагентства с умилительным рекламным баннером. Умилительный - должен умилять, но меня отчего-то кидает в дрожь: кислотная пена волн, она того и гляди накроет счастливую семейку – как только они не замечают очевидного? Улыбаются, от того кажутся еще безумнее, еще страшнее. И это мой идеал?!
От радостного возбуждения не остается и следа. Руки опускаются, я еле волочу за собой пакеты, будто не я, а все эти вещи куда-то меня ведут на шуршащем поводке и в строгом ошейнике. Все три года я суечусь, задабриваю Алекса подарками, которые он при каждой ссоре по привычке швыряет мне в лицо, обесценивая их и меня заодно, как припадочная визжу от восторга, когда он прощает мои косяки, и впадаю в тяжелую депрессию с каждым его уходом. Хотя давным-давно понимаю, что этот человек ни секунду в жизни меня не любил, не любит и не полюбит никогда, ибо на любовь не способен вовсе. А что я? Разве я не вижу его истинную суть? Разве я слепа от любви к нему? Нет, правда, нет. Вся моя суета от того, что мне безумно жаль этих трех лет потраченного на Алекса времени и от злости, разумеется, от злости: должны мои старания в конце концов принести плоды или мне так и оставаться вечной невестой? И поздно отступать: Алекс или другой такой же – не все ли равно? Все так живут – терпят, притворяются, улыбаясь, не замечают, как растят за своими спинами убийственную волну – ту, что рано или поздно поглотит дух.
Я прикусываю губу и, собравшись, подволакиваю пакеты к зоомагазину. Девушка-продавец живо интересуется, что мне угодно.
- Не подскажете: чем питаются вороны? – спрашиваю я на выдохе, себе под нос.
На удивление, девушка расслышала вопрос. Она не теряется и с воодушевлением начинает тараторить, увлекая меня за собой вглубь магазина к аккуратным полочкам.
- У нас имеется прекрасный корм для уличных птиц, подходит всем пернатым, в его составе все необходимое: семена подсолнечника, просо, овес, морковь, арахис, лен и даже ягоды рябины. Взгляните!
Девушка снимает с полки полиэтиленовый пакетик, раздутый от избытка разноцветных семян.
- Беру. То, что нужно, - безучастно отвечаю я, начисто позабыв о клетке.
Оставляю торговый центр. Смелый весенний ветер, врываясь в распахнутые двери, обжигает лицо. Меня бросает в жар, но онемевшими кистями не запахнуть пальто, приходится нести тяжесть через все светофоры, сквер. Вспоминаю о клетке – плюю, нет, смачно харкаю наземь (благо, никто не видит). И правда – плевать, донести ее не хватит рук.
Затылок ноет, будто камень привязан к шее, тянет вниз. Я представляю, каких мучений будет стоить улыбнуться, дабы не испортить Алексу настроение, сколько сил будет потрачено на приготовления к вечеру: еда, стол, чертов макияж. Как долго я буду стоять, прикинувшись бессловесной, но на зависть прекрасной статуей, боясь обидеть кого неосторожным словом, считая часы в ожидании завершения вечера и заветной похвалы, вроде: «Сегодня ты была безупречна. Можешь, если постараешься!».
Уже и дом недалеко. Подъезд. Кто-то придерживает дверь – спасибо на том! Растягиваю губы в улыбке, готовясь гримасничать, изображая радостное приветствие. Отворяю дверь квартиры.
- Алекс, я вернулась! – восклицаю я насколько возможно радостнее, одновременно ищу глазами ворона в боязни ненароком на него наступить. Из квартиры идет неприятный, слегка приторный запах – не обращаю внимание, мало ли что.
Странно, но Алекс не отзывается. Не может быть, чтобы он до сих пор дрых – это не в его привычке. А вдруг ушел? Сердце захватывает нестерпимая боль. И ворона тоже не видать. Одна догадка ужаснее другой: что, если птица довела Алекса своим карканьем, и он выгнал ворона, выбросил в окно, а затем ушел и сам, обидевшись по обыкновению?
Бросаю пакеты в прихожей и, не раздеваясь, прохожу в комнату: тут все вверх дном. Словно смерч пронесся: штора сорвана, за ней сквозь голую оконную раму врывается слепящий полуденный свет, вся мебель перевернута, книги, ноутбук и наушники Алекса грудой хлама валяются на полу.
Перевожу взгляд на кровать, козырьком прикладываю ладонь ко лбу, защищаясь от назойливого света. Аккуратно переступая через разбросанные вещи, оказываюсь у кровати и тотчас натыкаюсь на пятку Алекса.
«Значит не ушел», - первая мысль приходит в голову, а за ней отчего-то, как той кислотной волной с дурацкого плаката захлестывает грусть, обреченность и следом другая безотчетная мысль: «Не ушел, и ничего не изменить».
Не сразу я понимаю, что тот неприятный запах, который я ощутила с порога, при приближении к Алексу заметно усилился. Лишь теперь я, отвлекшись от мыслей, заставляю себя рассмотреть спящего. И…. истинная, самая что ни на есть подлинная волна ледяного ужаса захватывает меня целиком, я с трудом верю тому, что вижу.
Алекс, голый по пояс, с раскинутыми крестом руками лежит посреди постели, а на животе его как ни в чем не бывало топчется ворон. ЧуднО пританцовывая, ворон то поднимает, то опускает голову, с рваным звуком выдергивая из правого бока Алекса – нет, не спящего, а совершенно мертвого Алекса, красновато-коричневые куски. Я застываю с открытым ртом, ворон на миг отрывается от своей трапезы и глядит мне в глаза: взгляд птицы глубок, черен, проницателен. Ворон отрывает очередной кусок и с диким карканьем, что тут же вырывает меня из оцепенения, делает взмах совершенно здоровыми крыльями и разящей черной стрелой пронзает окно, исчезая в лучах молодого солнца.
Оконное стекло разлетается тысячами осколков, и холодный ветер кружит их по подоконнику в блестящем вальсе. Я смотрю, как из дыры в печени Алекса на белую простынь стекает бурая кровь, и пытаюсь уложить в голове случившееся. Наверное, я не умна, раз не нахожу ответа. А кто найдет? Случившееся – против всяких правил.
Начинаю смеяться: весело, звонко, легко. Нелепо и страшно, но впервые за долгие годы я наслаждаюсь собственным искренним смехом! «Какая удача, что я не купила клетку!» - хохочу я в голос. Раз жизнь сама нарушает установленные ею правила, как прикажете им следовать?
Я понятия не имею, что произошло в квартире за время моего отсутствия. Но теперь я знаю доподлинно: вечеринка не состоятся. Не состоится ни сегодня, ни когда бы то ни было еще. Не будет игры в молчанку, тупого хип-хопа и дежурных улыбок, фальшивых масок в ожидании предложения – не бывать этому никогда!
А чему в таком случае быть? О том я так же не имею ни малейшего понятия. Повторюсь, не умна. Но с достоверностью могу утверждать одно: теперь мне известно наверняка, что едят вороны…
Радость
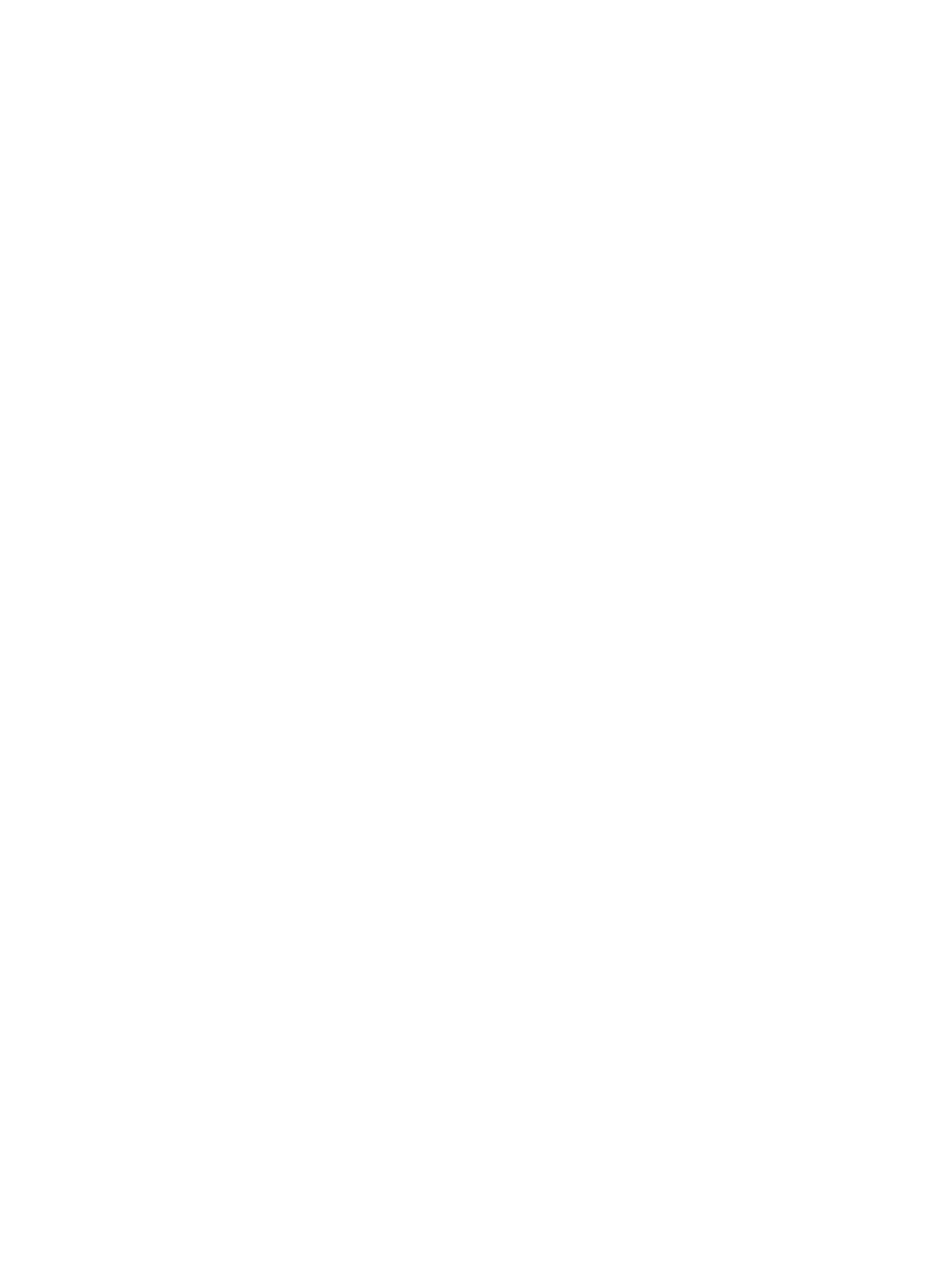
Художник Валентина Симонова
Нет, это уж слишком! – в сердцах выпалил Игорь, встретившись взглядом с прекрасной синеглазкой, в присутствии которой даже кресло в салоне самолета обретало черты королевского трона, с которого она смотрела снизу вверх на него, застывшего рядом, с вытянутой к багажной полке рукой.
Еще с месяц тому назад его реакция была бы иной, повстречай он вот так запросто по пути в Калининград мечту всей своей жизни, неразделенную любовь юности. Тогда он бы счел столь счастливую случайность за промысел Божий… Тогда, но не теперь. Несмотря на скорую близость к небесам (самолет готовился к взлету) до Бога тут было еще как далеко. Не самолету с его пассажирами и экипажем, нет, а ему, Игорю. В последнее время он отдалялся от света семимильными шагами, и та случайная встреча – отнюдь не счастливая (он знал) – следующий шаг назад, во тьму преисподней, как бы гротескно то не звучало.
Что до звуков, то именно они, беспрестанно изводили слух, будто ржавым сверлом дырявя тупое сознание одной повторявшейся фразой: «Ты готов принять радость?». Впервые он услышал этот вопрос, не имея ни единой мысли о его кажущейся простоте, за которой скрывался скрытый глубокий потаенный смысл, в обеденный перерыв, заурядным рабочим днем, не предвещавшим перемен.
По обыкновению спустившись в фойе бизнес-центра выпить дневную чашечку капучино с крендельком, Игорь, ожидая, когда подойдет его очередь сделать заказ, вышел подышать воздухом ранней, только начинавшей оттаивать после затяжных морозов весны. Рассеянным взглядом он рассматривал оживленную улицу в центре города стекла и бетона. Внезапно стекло и бетон представили его взору нечто совершенно не вязавшееся с урбанистическими декорациями респектабельной столицы.
Цыганка в пестром попугайском наряде, чумазая с оравой еще более чумазых ребятишек переходила дорогу метрах в двадцати от пешеходного перехода, неторопливо, то и дело одергивая детей, не желавших идти строем, чем заслужила гневные и очевидно справедливые окрики измученных пробками водителей, сопровождавшиеся отчаянными гудками клаксонов.
Только теперь Игорь понял – ему заведомо было известно, что цыганка подойдет к нему, он мог и должен был уйти, но почему-то застыл как вкопанный, будто кто-то свыше запустил неподвластный ему механизм и ничего ему, Игорю, уже не изменить – остается ждать и смотреть, смотреть и ждать, что будет дальше.
Так и вышло: к облегчению участников дорожного движения, цыганка, увела-таки за собой с проезжей части непослушный выводок, пересекла улицу и остановилась в непосредственной близости от Игоря. У входа в офисное здание, рядом с урнами толпились курильщики. Другие, подобно Игорю, прельщенные весенним теплым ветерком, вышли подышать, а заодно, поболтать, коротая обеденное время, - все как один пускали косые стрелы осуждающих взглядов на семейку цыган, при том, прямо смотреть никто не решался.
И мрачные опасения толпы немедля оправдались: цыганка принялась клянчить: «Люди, дорогие, подайте, кто сколько может, не себе прошу - детишкам покушать!» И так далее понеслась неновая песня. Собравшиеся отводили взгляды, кто резво засобирался обратно в офис, - стеклянные двери, не успевая закрываться, отворялись вновь, создавая в фойе сквозняк, заставляя девушек на ресепшн недовольно ежиться от холода, - кто демонстративно отворачивался, раздраженно впиваясь зубами в недокуренные сигареты.
Кто-то, но не Игорь – тот незнамо отчего прилип глазами к попрошайке, и цыганка мгновенно словила его безотчетный призыв – не успел он и глазом моргнуть, как она стояла перед ним, уводя за собой взглядом бездонных глаз мутных озер в черной ночи. Он не помнил, как открыл кошелек, искренне всем сердцем желая одарить просительницу, но в нем кроме «пластика» ничего не оказалось. Ее разочарование моментально передалось Игорю.
- Пройдемте внутрь! Я угощу вас кофе, - сказал он, желая поправить положение, и, как случалось не раз, тотчас жалея о сделанном.
Через минуту-другую он уже наблюдал уличное движение сквозь прозрачное стекло, сидя за столиком в кафетерии офисного центра, а напротив чумазая цыганка за обе щеки уплетала пончики. «Что я делаю здесь? С ней?» - говорил себе Игорь, зачем-то читая номера проезжавших по улице машин.
- Ты – добряк, - говорила женщина. Игорь поймал себя на мысли, что как только она отвлекалась от еды и возобновляла разговор, его будто примагничивало, мутные воды ее глаз обволакивали, и тягучая речь отдавалась в голове, занимая все его мысли без остатка. – Добряк поневоле. Не хочешь, а отдаешь. Сам радости не имеешь.
- Да в общем-то… - Игорь собирался было возразить, сам не зная толком, что, но его сомнительные, мало перспективные потуги были бесцеремонно прерваны.
- Знаешь, мил-человек, хочется мне сделать для тебя что-то хорошее, - вновь заговорила цыганка, притягивая словом и взглядом. – Ты готов принять радость?
- Конечно, - не раздумывая, отвечал Игорь.
- Э…- нет… Не отвечай, покуда не уверен! - предостерегла женщина, грозя указательным пальцем, еще хранившим на себе следы сахарной пудры от свежесъеденной пышки. – Радость она, знаешь ли, как нежная роза, внимание привлекает, и сама внимания требует. С ней в сторонке не отсидишься…
Как бы ни были глубоки темные воды нацеленных на Игоря глаз ворожеи, мысли Игоря оставались на поверхности и дальше обыденного мелководья не заходили.
- Уверен! Готов! – по-солдатски отвечал Игорь, хотя ему никогда не доводилось сталкиваться с тяготами армейской службы.
Цыганка прищурилась, коряво усмехнулась и…удалилась без слов, оставив мужчину одного допивать остывший капучино. Игорь, в конец обескураженный, уже подумывал о том, что чумазая ворожея с мутным обволакивающим взором, и дети ее голодные ему просто померещились, как наваждение возвратилось, держа в руках сверток.
- Ну вот, милок, теперь у тебя все наладится, - проговорила цыганка. Положив сверток на стол, она пододвинула его ближе к мужчине, но тот не спешил брать.
- Что это? – спросил Игорь, смерив недоверчивым взглядом сероватую тряпицу, крест-накрест перевязанную бечевкой.
- Волчья кунка, - сказала цыганка, - влагалище волчицы, то бишь, - и, не дав Игорю оправиться от шока, пихнула ему сверток прямо в руки.
То ли от страха, то ли от отвращения, брезгливости, а, может, от всего вместе взятого, Игорю почудилось, что ладони обдало паром – горячим и едким. Пока он приходил в себя, цыганки и след простыл. А сверток с пугающим содержимым остался в руках – ничего не поделаешь, непрошенный подарок теперь принадлежал ему.
«Все наладится», - говорила цыганка. «Как же? На целых 15 минут с обеда опоздал», - сетовал про себя Игорь, поднимаясь на лифте в главный офис крупной риэлторско-строительной Компании под названием «Горизонты», где он вот уже три года занимал одну и ту же должность менеджера по развитию. По злой иронии, сам он о развитии мог только мечтать, три года штиля и карьерной стагнации – болото, да и только, и никаких перспектив его личный горизонт не предвещал.
А за круглым столом зам генерального по инвестпроектам уже собрал совещание. Несмотря на то, что Игорю на подобных встречах отводилась роль не более, чем статиста, опоздание этим не оправдывалось. «Отделаюсь выговором или премии лишат?» - гадал он, неловко извиняясь, занял свободное место, расположив на коленях неуместный сверток.
Между тем, зам директора, Петр Петрович вел речь о перспективах инвестиционного проекта строительства жилищного комплекса премиум-класса «Дирижабль» в самой западной обасти страны, городе Калининграде. Обещались сверхзанятость, сверхконтроль и, разумеется, сверхприбыль. Игорь слушал вполуха – могут ли заботить пешку ходы ферзя? Оттого не сразу распознал он в потоке воодушевленной речи начальства собственное имя.
- Игорь Юрьевич! Заснули вы что ли? Как всем известно, на вас возложено руководство проектом. К концу недели ожидаю подробную смету. Не подведите, голубчик!
Игорь нервно сглотнут, удивленно выпучил глаза, в горле застыл комок. По привычке согласно кивнул – отточенный за годы подчиненного труда до автоматизма жест пришелся как нельзя кстати. Щекочущая холодом струйка пота стекала по спине. Как так вышло, что ему, заурядному, бесперспективному менеджеру вдруг доверили руководство знаковым проектом? А главное, когда все так удачно для него успело устроиться? И проныра-Виктор, которого прочили на эту должность, как позже выяснилось, желая выслужиться перед начальством, наломал дров и был отправлен в незапланированный отпуск после жалобы многоуважаемого клиента. И начальник отдела, Владимир Львович вместо того, чтобы сделать втык за опоздание, вдруг непременно решил ходатайствовать за него, Игоря, которого раньше не замечал в упор.
А хорошо ли в действительности устроилось? Не повлечет ли взмах крыла бабочки его внезапной удачи бурю проблем? Смета к пятнице! Уже головная боль. Повышение тянуло за собой ответственность, а разве привык он отвечать? Двойная работа – двойной спрос! Отчитывайся теперь, да не только за себя – за целый проект! Вспомнилось ему, как он, втихую завидуя Виктору, нет, скорее, восхищаясь, ведь не было в том чувстве зла, представлял себя на его месте – успешного, уважаемого. Не представлял он только того, о чем подумал теперь, заняв это место наяву.
После совещания погруженный в думы Игорь добрался, наконец, до своего рабочего места, потными ладонями теребя сверток, развязал бечевку. Волнение и закравшийся из самых глубин существа страх обездвижили на миг тело и разум: его неискушенному взгляду воочию пришлось лицезреть тот биоматериал покойной ныне волчицы, о котором говорила дарительница, окруженный серым пушком.
«Неужели цыганка не обманула, и все благодаря ей, волчьей матке?» Ему бы радоваться, но мужчина в ужасе отпрянул. Вспомнился вдруг крестик, с самых крестин оставшийся на груди, постулаты, завещанные безвременно ушедшим отцом-коммунистом, в смутны перестроечные времена резко переодевшимся в богомольца, что, впрочем, меняло форму, но не суть: «Церковь осуждает всякое колдовство, сынок» - говорил отец, среди прочего. Не сказать, чтобы Игорь вел богомольную жизнь, но как-никак, считал себя верующим. И боялся, снова боялся… Толком не зная чего, возможно, кары небесной, возможно успеха, которой отныне не в чьих-то, а его руках, а руки-то не те, и разум не заточен, но так или иначе, вся его натура, отравленная годами выработанной привычкой ожидать иной сценарий, отвергала непрошенный дар, душа отталкивала, тело брезговало. Какой-то безрадостной выходила обещанная радость.
Игорь поспешил спрятать срамное содержимое свертка от посторонних глаз, туго перевязал замаранной бечевкой и уложил на дно портфеля. Принес домой и не найдя подходящего укромного места для скверной вещицы, запихнул сверток в вентиляционное отверстие. «Почему так темно?» - подумал Игорь, ориентируясь наощупь. «Я забыл включить свет? Или…» Опасливое, тревожное «или» тотчас нашло подтверждение оглушительным трезвоном во тьме одинокой квартиры. Звонил телефон, оставленный мужчиной в прихожей, и только теперь Игорь приметил особенную гадливость поставленной им самим бессменной вот уже много лет мелодии, модной когда-то, безвкусной, развеселой до отвращения, почти такой же отвратительной, как только что запрятанная в вентиляцию дрянь.
«Алло!» - отозвался Игорь, включив, наконец, свет. И тут же пожалел, что ответил. С того конца аппарата на него обрушился возмущенный голос того самого проныры-Виктора, должность которого волею случая досталась Игорю. Виктор разразился долгой гневливой тирадой, обвиняя Игоря в том, что никто как он подговорил клиента подать жалобу начальству, и лишь благодаря его продуманному расчетливому предательству Виктор впал в немилость. «Тебе это с рук не сойдет!» - закончил угрозой Виктор и сбросил вызов.
«Не хватало еще нажить врага», - с обреченной грустью подумал Игорь и направился в ванную умыться и принять душ. Неожиданно он ощутил холод, неясная дрожь прошлась по затылку, будто кто-то стоял за его спиной, морозным воздухом дышал в спину. «Кажется, все только кажется…». Виктор поднял глаза. Зеркало в ванной комнате отразило его бледной испуганное лицо, а позади неизвестно откуда взявшееся темное пятно. Игорь повертел головой, пятно, похожее на тень, поворачивалось вместе с ним. Тень не повторяла контуры его тела, была автономна и, в то же время, словно привязана к его телесной оболочке, следовала за ней.
«Чертова галлюцинация, не может этого быть!» Мужчина в истерике набросил на неугодное зеркало полотенце, да так и оставил закрытым до утра. А ночью ему пришел сон. Сон состоял сплошь из звуков, голосов, перебивавших друг друга.
- Все наладится! – говорил голос цыганки, затягивающий сознание в сплетенную благими увещеваниями паутину.
- В жизни ничего не дается даром. За все рано или поздно придется платить, - напутствовал строгий голос отца.
Игорь проснулся с рассветом, и его будто осенило. Сон был в руку. Тень – тень отца, извлеченная из подсознания чувством вины, неправедности содеянного накануне. Отец предупреждал о грядущей расплате за незаслуженный дар судьбы. Да, Игорь получил проект, возможно, впереди повышение, премия, карьерный рост. Но что взамен? Мысль о расплате до смерти страшила Игоря.
Прокручивая в голове различные варианты развития событий, он собирался на работу. Вышел из подъезда во двор.
- Игорек! – послышался за спиной знакомый голос.
- Доброго утра, Димон! – поприветствовал Игорь вышедшего следом соседа, старого приятеля еще со школьных времен.
- Наконец-то я тебя застал! – радостно воскликнул тот. – Возьми! Возвращаю! Все сполна! Прости за задержку!
Приятель протянул Игорю толстую пачку шелестящих купюр, скрепленную веселой салатовой резиночкой. Не сразу Игорь сообразил… Немудрено, ведь он давным-давно распрощался с мыслью вернуть долг, триста тысяч, что когда-то давным-давно безотказный Игорь, не раздумывая дал взаймы забывчивому другу.
«Еще одна удача…Нежданная радость». Необъяснимая тоска теснила грудь. Игорю вдруг пришло в голову, что он скучает по прежним привычным неудачам, монотонной безнадеге, уверенности в неизменности каждого дня.
Весь последующий месяц Игорь метался между работой над ответственным проектом, который, что уж говорить, продвигался необыкновенно споро (он как куратор на днях должен был отбыть в Калининград) под завистливые и одновременно удивленные взгляды коллег и отраженной тенью, с каждой новой удачей увеличивающейся в размерах.
Нескончаемая карусель звонков, встреч, рукопожатий непонятно откуда взявшихся липнущих как назойливы мухи девиц – ощущение было такое, будто швырнуло его безо всякой его на то воли на безумный, захватывающий сердце аттракцион, где все кричат и радуются в адреналиновой эйфории, а он вцепившись в ремни и зажмурив глаза, грезит лишь об остановке, понимая, что не заплатил, что впустили его обманом по чужому билету, и нету права у него на беспечность.
«Ты готов принять радость?» - снова и снова вопрошала ворожея в голове счастливца. «Нет, тысячу раз, нет!» - ответил бы сегодняшний Игорь. Мысли о неотвратимости скорой расплаты, о коей каждый раз напоминала растущая тень покойного батюшки, прочно колючими иглами засели в его голове, причиняя боль ежечасно и повсеместно, везде и всегда, куда бы он не пошел, чем бы не занимался.
А тут еще Виктор, возненавидевший Игоря всей душой, вернулся из отпуска, воплощенным немым укором заставлявший страдать, захлебываться ядовитыми волнами немой злобы, читавшейся, как чудилось Игорю, в каждом движении, каждом взгляде опального коллеги. А ведь совсем недавно Виктор легко и непринужденно подтрунивал над Игорем, по-доброму, шутя, делился новостями по обыкновению хорошими, искренне желал здоровья при встрече, сердечно жал руку. Сейчас Игорь, не задумываясь, поменял бы всю свалившуюся на него удачу, скорый карьерный рост, нежданные перспективы на доброе искреннее слово коллеги и кристально-чистое отражение, и чтоб никакой тьмы за спиной…
«Меня увольняют», - укоризненное признание Виктора Игорь услышал в коридоре во время очередной колющей сердце встрече. «Погляди, что ты наделал! Ничего, что с такой репутацией меня теперь никуда не берут?! А у меня жена, дети. Тебе-то хорошо! Ты – один. Разглядеть бы раньше в таком исусике двуличного карьериста! Не думал, что по головам пойдешь! Оглядывайся теперь почаще! Мне терять нечего!» - покраснев как рак, выпалил Виктор на одном дыхании.
«А вот и расплата…Недолго пришлось ждать…» - подумал Игорь, и отчего-то легче стало на душе. Даже показалось, что тень за спиной малость осела, сжалась.
Ошибся… Он понял это, встретившись взглядом с синеглазкой в салоне самолета, его некогда неразделенной любовью юности. И мысль о том, что теперь у них двоих все непременно сложится иначе не вызывала ничего, кроме невыносимой грусти, неизъяснимой тоски по прежнему унылому неудачнику, кем совсем недавно мнил себя Игорь. Она конечно же узнала его – как же? Не могла не узнать, когда обрыдлая волчья кунка, хоть и была упрятана в вентиляцию, продолжала работать, приносить «радость», как пророчила цыганка.
Воспоминания о годах юности во время полета несколько приободрили Игоря, скорее, отвлекли от навязчивых дум. Счастливым обладателем телефонного номера синеглазки, он сошел с трапа. Нечего и говорить, что город Канта принял его радушно, дела на стройплощадке и без него продвигались успешно, стоило лишь с удовлетворением сей факт засвидетельствовать. К несчастью, свидетельствовала и разросшаяся до неприличия тень.
Когда по возвращении Игорь с довольной миной, преисполненный важности от безупречно выполненной миссии, зашел в офис, он с прискорбием констатировал, что сама атмосфера в помещении и каждое из встречных лиц отмечены ореолом печали, негласной, но ясно читаемой скорбью. Его зажженные успехом глаза тотчас померкли, стоило ему узнать, что траур небеспричинен, и причина тому – самоубийство их коллеги, Виктора, того, кто был на Игоря обижен, того, кто угрожал. Да угрозе не суждено было осуществиться.
Игорь живо представил, как исполненный ненависти и отчаяния Виктор дожидается, когда последний сотрудник покинет рабочее место, проходит в кабинет, встает на стул – обычный такой, с колесиками и откидной спинкой, сооружает петлю, крепит веревку, толкает стул, колесики, скрипнув, отъезжают, и петля затягивается на его шее. Нет, не только его! Игорь буквально чувствовал, как это его шею душит петля, как громадная тень отца обступает кругом, вынося обвинительный вердикт за незаслуженный дар.
Внезапно его осеняет идея. Сторонясь зеркал и всяких отражений, он спешит домой. Вынимает сверток из вентиляционного отверстия, кидает в портфель и, не выпуская из рук, едет прочь из Москвы, в закатных сумерках, на первой попавшейся электричке. Выйдя из вагона, с перрона идет пешком, долго идет, вдоль бабушек, продающих похоронные венки, павильонов ритуальных товаров с выставленными напоказ образцами надгробий, памятников, крестов, к воротам подмосковного кладбища.
Череда оград, не успевшая оттаять земля покрыта ледяной коркой, а вот и могила отца, неприбранная, кажется еще мрачнее, еще грязнее в наступившей темноте.
- Я пришел, папа…Пришел, чтобы оставить тень. Забери ее! Молю! Я отказываюсь от дара. Отрекаюсь здесь и сейчас! – говорил Игорь треснутому надгробию с именами и датами. – На, возьми! Мне не нужно!
«Не нужно, не нужно!» - повторял он снова и снова, пока дрожащие руки рыли ямку, а затем сыпали землю на упокоенный в углублении сверток. Прикопав на отцовской могиле волчью кунку, выдохнул: «Теперь все… Вот теперь-то все и наладится».
К станции возвращался темной узенькой тропкой, мимо озера, в зеркале которого купалась ясная половинчатая луна. Впереди возле кустов промелькнуло что-то. Пришлось замедлить шаг. Сердце сжималось от страха, но, превозмогая испуг, он все же обернулся и увидел поодаль на другой стороне озера крадущуюся за кустарниками тень. В белесом свете луны тень окуналась в озеро, неимоверно огромная, утопала в темной воде и двигалась…С подгибающимися коленями, полумертвый от ужаса Игорь ринулся вперед, и тень точно следовала его движениям, не приближаясь, не отставая.
Тускнеет от страха разум, но все ж не до того, чтобы не понять ему, не дойти до сути, и разум Игоря, достиг-таки понимания, и горько, обидно стало Игорю, столь обидно до тошноты, что лучше б не доходил, лучше б не понимал. Игорь остановился, парализованный, немой, тяжело дыша грудью от нестерпимой гонки. Гонки от собственной тени.
Тень не исчезла с прикопанной на отцовской могиле кункой, да и не могла она исчезнуть, потому как к волчьему дару никак не была привязана, как не была привязана и к мирно спящему под гранитной плитой отцу. То была его тень – живое воплощение его потаенного страха «принять радость», порождение его убогого рабского существования, проникнутого упованием на благоволение небес страждущим и воздаяние недостойным за их грехи.
Обещанная цыганкой «радость» окружала его с самого начала, ярким факелом озаряла его путь, как только он взял в руки подаренный сверток. И что же он? Вместо того, чтобы идти по прямой освещенной дороге, свободной от заторов и всяких помех, он только и делал, что озирался по сторонам в поисках неведомых ангелов возмездия, бесов поднебесья, только и ждущих подходящего момента, чтобы нанести удар, каменными стрелами застлать дорогу, запереть его, недостойного между землей и небом, неупокоенного живого мертвеца.
С тяжелым сердцем он покидал станцию, с тяжелым сердцем возвращался домой. И следующим пасмурным утром (он знал, иного утра ему не видать боле) он явился в офис, и там, в чем не приходилось сомневаться, его ожидала неприятность – не последняя, и никак иначе. Выяснилось, что в Калининграде по его недосмотру внезапно нагрянувшая строительная инспекция выявила недочеты, стройку приостановили, а Игоря начальство вызывало на ковер.
Игорь знал – ничего не исправить, не войти в одну реку дважды, но искра, зажженная в его сердце огоньком факела, что так поздно удалось распознать, призывала попытаться. Разбор на общем собрании и закономерный разнос от начальства в плане секретаря значились следующим днем, а значит оставалось время успеть, время исправить. И ноги уже несли Игоря на железнодорожную станцию, в руках – портфель с маленькой садовой лопаткой внутри.
Днем дорога выглядела иначе, и тень исчезла, укрывшись за озером, чтобы с сумерками явиться вновь. Кладбище, безлюдное накануне (Игорь отчего-то решил, что так и должно быть), кишело людьми, и на аллее близ могилы отца посетители копошились точно муравьи. «Плевать!» - решил Игорь, коль ставки высоки. Достал из портфеля лопатку и принялся копать – ровно в том месте, где давеча зарыл кунку. Но как ни старался он, как ни перекапывал землю за оградой вдоль и поперек под озадаченные взгляды проходивших мимо людей, что стреляли в спину, свертка нигде не было – будто в воду канул, точнее – в преисподнюю. А, может, и не существовал, как не существовала и одарившая Игоря ворожея, и устрашился он, запаниковал будучи огорошенным призраком удачи, впервые в жизни постучавшей к нему в дверь.
Унылый, болезненно бледный, без сил вернулся Игорь домой. Швырнул на столик телефон…И синеглазка не позвонит и не ответит. Теперь уж точно никогда…В запыленном зеркале отразилась тень – обыкновенная, тень как тень. Он глядел на нее без страха - чего бояться, раз продолжения не будет, – с усталой обреченной тоской. Что продолжать? Унылую рабскую суету в непроглядном болоте мелкой рыбешкой среди зубастых акул? Тянуть постылую лямку до обеденного перерыва, снова тянуть, ожидая заветных шести часов и так без конца, без надежды на избавление? Нету отныне на то возможности, когда довелось нырнуть в иные воды! Жаль, не удержался на плаву, потерялся, страшась глубины. Но глубина продолжала манить – одна она и манила туда, где из тьмы рождается новое начало, шанс обрести радость…
На следующий день к досаде начальства и не упускающих повод позлорадствовать коллег Игорь не явился на совещание. Спустя время его обнаружили в собственной квартире, мертвого, повешенного на шнуре. На столе лежала предсмертная записка, смысл которой так и остался для всех загадкой: прыгающими буквами на белом листе красными чернилами в одну строчку: «Я ухожу, чтобы принять радость…».
Еще с месяц тому назад его реакция была бы иной, повстречай он вот так запросто по пути в Калининград мечту всей своей жизни, неразделенную любовь юности. Тогда он бы счел столь счастливую случайность за промысел Божий… Тогда, но не теперь. Несмотря на скорую близость к небесам (самолет готовился к взлету) до Бога тут было еще как далеко. Не самолету с его пассажирами и экипажем, нет, а ему, Игорю. В последнее время он отдалялся от света семимильными шагами, и та случайная встреча – отнюдь не счастливая (он знал) – следующий шаг назад, во тьму преисподней, как бы гротескно то не звучало.
Что до звуков, то именно они, беспрестанно изводили слух, будто ржавым сверлом дырявя тупое сознание одной повторявшейся фразой: «Ты готов принять радость?». Впервые он услышал этот вопрос, не имея ни единой мысли о его кажущейся простоте, за которой скрывался скрытый глубокий потаенный смысл, в обеденный перерыв, заурядным рабочим днем, не предвещавшим перемен.
По обыкновению спустившись в фойе бизнес-центра выпить дневную чашечку капучино с крендельком, Игорь, ожидая, когда подойдет его очередь сделать заказ, вышел подышать воздухом ранней, только начинавшей оттаивать после затяжных морозов весны. Рассеянным взглядом он рассматривал оживленную улицу в центре города стекла и бетона. Внезапно стекло и бетон представили его взору нечто совершенно не вязавшееся с урбанистическими декорациями респектабельной столицы.
Цыганка в пестром попугайском наряде, чумазая с оравой еще более чумазых ребятишек переходила дорогу метрах в двадцати от пешеходного перехода, неторопливо, то и дело одергивая детей, не желавших идти строем, чем заслужила гневные и очевидно справедливые окрики измученных пробками водителей, сопровождавшиеся отчаянными гудками клаксонов.
Только теперь Игорь понял – ему заведомо было известно, что цыганка подойдет к нему, он мог и должен был уйти, но почему-то застыл как вкопанный, будто кто-то свыше запустил неподвластный ему механизм и ничего ему, Игорю, уже не изменить – остается ждать и смотреть, смотреть и ждать, что будет дальше.
Так и вышло: к облегчению участников дорожного движения, цыганка, увела-таки за собой с проезжей части непослушный выводок, пересекла улицу и остановилась в непосредственной близости от Игоря. У входа в офисное здание, рядом с урнами толпились курильщики. Другие, подобно Игорю, прельщенные весенним теплым ветерком, вышли подышать, а заодно, поболтать, коротая обеденное время, - все как один пускали косые стрелы осуждающих взглядов на семейку цыган, при том, прямо смотреть никто не решался.
И мрачные опасения толпы немедля оправдались: цыганка принялась клянчить: «Люди, дорогие, подайте, кто сколько может, не себе прошу - детишкам покушать!» И так далее понеслась неновая песня. Собравшиеся отводили взгляды, кто резво засобирался обратно в офис, - стеклянные двери, не успевая закрываться, отворялись вновь, создавая в фойе сквозняк, заставляя девушек на ресепшн недовольно ежиться от холода, - кто демонстративно отворачивался, раздраженно впиваясь зубами в недокуренные сигареты.
Кто-то, но не Игорь – тот незнамо отчего прилип глазами к попрошайке, и цыганка мгновенно словила его безотчетный призыв – не успел он и глазом моргнуть, как она стояла перед ним, уводя за собой взглядом бездонных глаз мутных озер в черной ночи. Он не помнил, как открыл кошелек, искренне всем сердцем желая одарить просительницу, но в нем кроме «пластика» ничего не оказалось. Ее разочарование моментально передалось Игорю.
- Пройдемте внутрь! Я угощу вас кофе, - сказал он, желая поправить положение, и, как случалось не раз, тотчас жалея о сделанном.
Через минуту-другую он уже наблюдал уличное движение сквозь прозрачное стекло, сидя за столиком в кафетерии офисного центра, а напротив чумазая цыганка за обе щеки уплетала пончики. «Что я делаю здесь? С ней?» - говорил себе Игорь, зачем-то читая номера проезжавших по улице машин.
- Ты – добряк, - говорила женщина. Игорь поймал себя на мысли, что как только она отвлекалась от еды и возобновляла разговор, его будто примагничивало, мутные воды ее глаз обволакивали, и тягучая речь отдавалась в голове, занимая все его мысли без остатка. – Добряк поневоле. Не хочешь, а отдаешь. Сам радости не имеешь.
- Да в общем-то… - Игорь собирался было возразить, сам не зная толком, что, но его сомнительные, мало перспективные потуги были бесцеремонно прерваны.
- Знаешь, мил-человек, хочется мне сделать для тебя что-то хорошее, - вновь заговорила цыганка, притягивая словом и взглядом. – Ты готов принять радость?
- Конечно, - не раздумывая, отвечал Игорь.
- Э…- нет… Не отвечай, покуда не уверен! - предостерегла женщина, грозя указательным пальцем, еще хранившим на себе следы сахарной пудры от свежесъеденной пышки. – Радость она, знаешь ли, как нежная роза, внимание привлекает, и сама внимания требует. С ней в сторонке не отсидишься…
Как бы ни были глубоки темные воды нацеленных на Игоря глаз ворожеи, мысли Игоря оставались на поверхности и дальше обыденного мелководья не заходили.
- Уверен! Готов! – по-солдатски отвечал Игорь, хотя ему никогда не доводилось сталкиваться с тяготами армейской службы.
Цыганка прищурилась, коряво усмехнулась и…удалилась без слов, оставив мужчину одного допивать остывший капучино. Игорь, в конец обескураженный, уже подумывал о том, что чумазая ворожея с мутным обволакивающим взором, и дети ее голодные ему просто померещились, как наваждение возвратилось, держа в руках сверток.
- Ну вот, милок, теперь у тебя все наладится, - проговорила цыганка. Положив сверток на стол, она пододвинула его ближе к мужчине, но тот не спешил брать.
- Что это? – спросил Игорь, смерив недоверчивым взглядом сероватую тряпицу, крест-накрест перевязанную бечевкой.
- Волчья кунка, - сказала цыганка, - влагалище волчицы, то бишь, - и, не дав Игорю оправиться от шока, пихнула ему сверток прямо в руки.
То ли от страха, то ли от отвращения, брезгливости, а, может, от всего вместе взятого, Игорю почудилось, что ладони обдало паром – горячим и едким. Пока он приходил в себя, цыганки и след простыл. А сверток с пугающим содержимым остался в руках – ничего не поделаешь, непрошенный подарок теперь принадлежал ему.
«Все наладится», - говорила цыганка. «Как же? На целых 15 минут с обеда опоздал», - сетовал про себя Игорь, поднимаясь на лифте в главный офис крупной риэлторско-строительной Компании под названием «Горизонты», где он вот уже три года занимал одну и ту же должность менеджера по развитию. По злой иронии, сам он о развитии мог только мечтать, три года штиля и карьерной стагнации – болото, да и только, и никаких перспектив его личный горизонт не предвещал.
А за круглым столом зам генерального по инвестпроектам уже собрал совещание. Несмотря на то, что Игорю на подобных встречах отводилась роль не более, чем статиста, опоздание этим не оправдывалось. «Отделаюсь выговором или премии лишат?» - гадал он, неловко извиняясь, занял свободное место, расположив на коленях неуместный сверток.
Между тем, зам директора, Петр Петрович вел речь о перспективах инвестиционного проекта строительства жилищного комплекса премиум-класса «Дирижабль» в самой западной обасти страны, городе Калининграде. Обещались сверхзанятость, сверхконтроль и, разумеется, сверхприбыль. Игорь слушал вполуха – могут ли заботить пешку ходы ферзя? Оттого не сразу распознал он в потоке воодушевленной речи начальства собственное имя.
- Игорь Юрьевич! Заснули вы что ли? Как всем известно, на вас возложено руководство проектом. К концу недели ожидаю подробную смету. Не подведите, голубчик!
Игорь нервно сглотнут, удивленно выпучил глаза, в горле застыл комок. По привычке согласно кивнул – отточенный за годы подчиненного труда до автоматизма жест пришелся как нельзя кстати. Щекочущая холодом струйка пота стекала по спине. Как так вышло, что ему, заурядному, бесперспективному менеджеру вдруг доверили руководство знаковым проектом? А главное, когда все так удачно для него успело устроиться? И проныра-Виктор, которого прочили на эту должность, как позже выяснилось, желая выслужиться перед начальством, наломал дров и был отправлен в незапланированный отпуск после жалобы многоуважаемого клиента. И начальник отдела, Владимир Львович вместо того, чтобы сделать втык за опоздание, вдруг непременно решил ходатайствовать за него, Игоря, которого раньше не замечал в упор.
А хорошо ли в действительности устроилось? Не повлечет ли взмах крыла бабочки его внезапной удачи бурю проблем? Смета к пятнице! Уже головная боль. Повышение тянуло за собой ответственность, а разве привык он отвечать? Двойная работа – двойной спрос! Отчитывайся теперь, да не только за себя – за целый проект! Вспомнилось ему, как он, втихую завидуя Виктору, нет, скорее, восхищаясь, ведь не было в том чувстве зла, представлял себя на его месте – успешного, уважаемого. Не представлял он только того, о чем подумал теперь, заняв это место наяву.
После совещания погруженный в думы Игорь добрался, наконец, до своего рабочего места, потными ладонями теребя сверток, развязал бечевку. Волнение и закравшийся из самых глубин существа страх обездвижили на миг тело и разум: его неискушенному взгляду воочию пришлось лицезреть тот биоматериал покойной ныне волчицы, о котором говорила дарительница, окруженный серым пушком.
«Неужели цыганка не обманула, и все благодаря ей, волчьей матке?» Ему бы радоваться, но мужчина в ужасе отпрянул. Вспомнился вдруг крестик, с самых крестин оставшийся на груди, постулаты, завещанные безвременно ушедшим отцом-коммунистом, в смутны перестроечные времена резко переодевшимся в богомольца, что, впрочем, меняло форму, но не суть: «Церковь осуждает всякое колдовство, сынок» - говорил отец, среди прочего. Не сказать, чтобы Игорь вел богомольную жизнь, но как-никак, считал себя верующим. И боялся, снова боялся… Толком не зная чего, возможно, кары небесной, возможно успеха, которой отныне не в чьих-то, а его руках, а руки-то не те, и разум не заточен, но так или иначе, вся его натура, отравленная годами выработанной привычкой ожидать иной сценарий, отвергала непрошенный дар, душа отталкивала, тело брезговало. Какой-то безрадостной выходила обещанная радость.
Игорь поспешил спрятать срамное содержимое свертка от посторонних глаз, туго перевязал замаранной бечевкой и уложил на дно портфеля. Принес домой и не найдя подходящего укромного места для скверной вещицы, запихнул сверток в вентиляционное отверстие. «Почему так темно?» - подумал Игорь, ориентируясь наощупь. «Я забыл включить свет? Или…» Опасливое, тревожное «или» тотчас нашло подтверждение оглушительным трезвоном во тьме одинокой квартиры. Звонил телефон, оставленный мужчиной в прихожей, и только теперь Игорь приметил особенную гадливость поставленной им самим бессменной вот уже много лет мелодии, модной когда-то, безвкусной, развеселой до отвращения, почти такой же отвратительной, как только что запрятанная в вентиляцию дрянь.
«Алло!» - отозвался Игорь, включив, наконец, свет. И тут же пожалел, что ответил. С того конца аппарата на него обрушился возмущенный голос того самого проныры-Виктора, должность которого волею случая досталась Игорю. Виктор разразился долгой гневливой тирадой, обвиняя Игоря в том, что никто как он подговорил клиента подать жалобу начальству, и лишь благодаря его продуманному расчетливому предательству Виктор впал в немилость. «Тебе это с рук не сойдет!» - закончил угрозой Виктор и сбросил вызов.
«Не хватало еще нажить врага», - с обреченной грустью подумал Игорь и направился в ванную умыться и принять душ. Неожиданно он ощутил холод, неясная дрожь прошлась по затылку, будто кто-то стоял за его спиной, морозным воздухом дышал в спину. «Кажется, все только кажется…». Виктор поднял глаза. Зеркало в ванной комнате отразило его бледной испуганное лицо, а позади неизвестно откуда взявшееся темное пятно. Игорь повертел головой, пятно, похожее на тень, поворачивалось вместе с ним. Тень не повторяла контуры его тела, была автономна и, в то же время, словно привязана к его телесной оболочке, следовала за ней.
«Чертова галлюцинация, не может этого быть!» Мужчина в истерике набросил на неугодное зеркало полотенце, да так и оставил закрытым до утра. А ночью ему пришел сон. Сон состоял сплошь из звуков, голосов, перебивавших друг друга.
- Все наладится! – говорил голос цыганки, затягивающий сознание в сплетенную благими увещеваниями паутину.
- В жизни ничего не дается даром. За все рано или поздно придется платить, - напутствовал строгий голос отца.
Игорь проснулся с рассветом, и его будто осенило. Сон был в руку. Тень – тень отца, извлеченная из подсознания чувством вины, неправедности содеянного накануне. Отец предупреждал о грядущей расплате за незаслуженный дар судьбы. Да, Игорь получил проект, возможно, впереди повышение, премия, карьерный рост. Но что взамен? Мысль о расплате до смерти страшила Игоря.
Прокручивая в голове различные варианты развития событий, он собирался на работу. Вышел из подъезда во двор.
- Игорек! – послышался за спиной знакомый голос.
- Доброго утра, Димон! – поприветствовал Игорь вышедшего следом соседа, старого приятеля еще со школьных времен.
- Наконец-то я тебя застал! – радостно воскликнул тот. – Возьми! Возвращаю! Все сполна! Прости за задержку!
Приятель протянул Игорю толстую пачку шелестящих купюр, скрепленную веселой салатовой резиночкой. Не сразу Игорь сообразил… Немудрено, ведь он давным-давно распрощался с мыслью вернуть долг, триста тысяч, что когда-то давным-давно безотказный Игорь, не раздумывая дал взаймы забывчивому другу.
«Еще одна удача…Нежданная радость». Необъяснимая тоска теснила грудь. Игорю вдруг пришло в голову, что он скучает по прежним привычным неудачам, монотонной безнадеге, уверенности в неизменности каждого дня.
Весь последующий месяц Игорь метался между работой над ответственным проектом, который, что уж говорить, продвигался необыкновенно споро (он как куратор на днях должен был отбыть в Калининград) под завистливые и одновременно удивленные взгляды коллег и отраженной тенью, с каждой новой удачей увеличивающейся в размерах.
Нескончаемая карусель звонков, встреч, рукопожатий непонятно откуда взявшихся липнущих как назойливы мухи девиц – ощущение было такое, будто швырнуло его безо всякой его на то воли на безумный, захватывающий сердце аттракцион, где все кричат и радуются в адреналиновой эйфории, а он вцепившись в ремни и зажмурив глаза, грезит лишь об остановке, понимая, что не заплатил, что впустили его обманом по чужому билету, и нету права у него на беспечность.
«Ты готов принять радость?» - снова и снова вопрошала ворожея в голове счастливца. «Нет, тысячу раз, нет!» - ответил бы сегодняшний Игорь. Мысли о неотвратимости скорой расплаты, о коей каждый раз напоминала растущая тень покойного батюшки, прочно колючими иглами засели в его голове, причиняя боль ежечасно и повсеместно, везде и всегда, куда бы он не пошел, чем бы не занимался.
А тут еще Виктор, возненавидевший Игоря всей душой, вернулся из отпуска, воплощенным немым укором заставлявший страдать, захлебываться ядовитыми волнами немой злобы, читавшейся, как чудилось Игорю, в каждом движении, каждом взгляде опального коллеги. А ведь совсем недавно Виктор легко и непринужденно подтрунивал над Игорем, по-доброму, шутя, делился новостями по обыкновению хорошими, искренне желал здоровья при встрече, сердечно жал руку. Сейчас Игорь, не задумываясь, поменял бы всю свалившуюся на него удачу, скорый карьерный рост, нежданные перспективы на доброе искреннее слово коллеги и кристально-чистое отражение, и чтоб никакой тьмы за спиной…
«Меня увольняют», - укоризненное признание Виктора Игорь услышал в коридоре во время очередной колющей сердце встрече. «Погляди, что ты наделал! Ничего, что с такой репутацией меня теперь никуда не берут?! А у меня жена, дети. Тебе-то хорошо! Ты – один. Разглядеть бы раньше в таком исусике двуличного карьериста! Не думал, что по головам пойдешь! Оглядывайся теперь почаще! Мне терять нечего!» - покраснев как рак, выпалил Виктор на одном дыхании.
«А вот и расплата…Недолго пришлось ждать…» - подумал Игорь, и отчего-то легче стало на душе. Даже показалось, что тень за спиной малость осела, сжалась.
Ошибся… Он понял это, встретившись взглядом с синеглазкой в салоне самолета, его некогда неразделенной любовью юности. И мысль о том, что теперь у них двоих все непременно сложится иначе не вызывала ничего, кроме невыносимой грусти, неизъяснимой тоски по прежнему унылому неудачнику, кем совсем недавно мнил себя Игорь. Она конечно же узнала его – как же? Не могла не узнать, когда обрыдлая волчья кунка, хоть и была упрятана в вентиляцию, продолжала работать, приносить «радость», как пророчила цыганка.
Воспоминания о годах юности во время полета несколько приободрили Игоря, скорее, отвлекли от навязчивых дум. Счастливым обладателем телефонного номера синеглазки, он сошел с трапа. Нечего и говорить, что город Канта принял его радушно, дела на стройплощадке и без него продвигались успешно, стоило лишь с удовлетворением сей факт засвидетельствовать. К несчастью, свидетельствовала и разросшаяся до неприличия тень.
Когда по возвращении Игорь с довольной миной, преисполненный важности от безупречно выполненной миссии, зашел в офис, он с прискорбием констатировал, что сама атмосфера в помещении и каждое из встречных лиц отмечены ореолом печали, негласной, но ясно читаемой скорбью. Его зажженные успехом глаза тотчас померкли, стоило ему узнать, что траур небеспричинен, и причина тому – самоубийство их коллеги, Виктора, того, кто был на Игоря обижен, того, кто угрожал. Да угрозе не суждено было осуществиться.
Игорь живо представил, как исполненный ненависти и отчаяния Виктор дожидается, когда последний сотрудник покинет рабочее место, проходит в кабинет, встает на стул – обычный такой, с колесиками и откидной спинкой, сооружает петлю, крепит веревку, толкает стул, колесики, скрипнув, отъезжают, и петля затягивается на его шее. Нет, не только его! Игорь буквально чувствовал, как это его шею душит петля, как громадная тень отца обступает кругом, вынося обвинительный вердикт за незаслуженный дар.
Внезапно его осеняет идея. Сторонясь зеркал и всяких отражений, он спешит домой. Вынимает сверток из вентиляционного отверстия, кидает в портфель и, не выпуская из рук, едет прочь из Москвы, в закатных сумерках, на первой попавшейся электричке. Выйдя из вагона, с перрона идет пешком, долго идет, вдоль бабушек, продающих похоронные венки, павильонов ритуальных товаров с выставленными напоказ образцами надгробий, памятников, крестов, к воротам подмосковного кладбища.
Череда оград, не успевшая оттаять земля покрыта ледяной коркой, а вот и могила отца, неприбранная, кажется еще мрачнее, еще грязнее в наступившей темноте.
- Я пришел, папа…Пришел, чтобы оставить тень. Забери ее! Молю! Я отказываюсь от дара. Отрекаюсь здесь и сейчас! – говорил Игорь треснутому надгробию с именами и датами. – На, возьми! Мне не нужно!
«Не нужно, не нужно!» - повторял он снова и снова, пока дрожащие руки рыли ямку, а затем сыпали землю на упокоенный в углублении сверток. Прикопав на отцовской могиле волчью кунку, выдохнул: «Теперь все… Вот теперь-то все и наладится».
К станции возвращался темной узенькой тропкой, мимо озера, в зеркале которого купалась ясная половинчатая луна. Впереди возле кустов промелькнуло что-то. Пришлось замедлить шаг. Сердце сжималось от страха, но, превозмогая испуг, он все же обернулся и увидел поодаль на другой стороне озера крадущуюся за кустарниками тень. В белесом свете луны тень окуналась в озеро, неимоверно огромная, утопала в темной воде и двигалась…С подгибающимися коленями, полумертвый от ужаса Игорь ринулся вперед, и тень точно следовала его движениям, не приближаясь, не отставая.
Тускнеет от страха разум, но все ж не до того, чтобы не понять ему, не дойти до сути, и разум Игоря, достиг-таки понимания, и горько, обидно стало Игорю, столь обидно до тошноты, что лучше б не доходил, лучше б не понимал. Игорь остановился, парализованный, немой, тяжело дыша грудью от нестерпимой гонки. Гонки от собственной тени.
Тень не исчезла с прикопанной на отцовской могиле кункой, да и не могла она исчезнуть, потому как к волчьему дару никак не была привязана, как не была привязана и к мирно спящему под гранитной плитой отцу. То была его тень – живое воплощение его потаенного страха «принять радость», порождение его убогого рабского существования, проникнутого упованием на благоволение небес страждущим и воздаяние недостойным за их грехи.
Обещанная цыганкой «радость» окружала его с самого начала, ярким факелом озаряла его путь, как только он взял в руки подаренный сверток. И что же он? Вместо того, чтобы идти по прямой освещенной дороге, свободной от заторов и всяких помех, он только и делал, что озирался по сторонам в поисках неведомых ангелов возмездия, бесов поднебесья, только и ждущих подходящего момента, чтобы нанести удар, каменными стрелами застлать дорогу, запереть его, недостойного между землей и небом, неупокоенного живого мертвеца.
С тяжелым сердцем он покидал станцию, с тяжелым сердцем возвращался домой. И следующим пасмурным утром (он знал, иного утра ему не видать боле) он явился в офис, и там, в чем не приходилось сомневаться, его ожидала неприятность – не последняя, и никак иначе. Выяснилось, что в Калининграде по его недосмотру внезапно нагрянувшая строительная инспекция выявила недочеты, стройку приостановили, а Игоря начальство вызывало на ковер.
Игорь знал – ничего не исправить, не войти в одну реку дважды, но искра, зажженная в его сердце огоньком факела, что так поздно удалось распознать, призывала попытаться. Разбор на общем собрании и закономерный разнос от начальства в плане секретаря значились следующим днем, а значит оставалось время успеть, время исправить. И ноги уже несли Игоря на железнодорожную станцию, в руках – портфель с маленькой садовой лопаткой внутри.
Днем дорога выглядела иначе, и тень исчезла, укрывшись за озером, чтобы с сумерками явиться вновь. Кладбище, безлюдное накануне (Игорь отчего-то решил, что так и должно быть), кишело людьми, и на аллее близ могилы отца посетители копошились точно муравьи. «Плевать!» - решил Игорь, коль ставки высоки. Достал из портфеля лопатку и принялся копать – ровно в том месте, где давеча зарыл кунку. Но как ни старался он, как ни перекапывал землю за оградой вдоль и поперек под озадаченные взгляды проходивших мимо людей, что стреляли в спину, свертка нигде не было – будто в воду канул, точнее – в преисподнюю. А, может, и не существовал, как не существовала и одарившая Игоря ворожея, и устрашился он, запаниковал будучи огорошенным призраком удачи, впервые в жизни постучавшей к нему в дверь.
Унылый, болезненно бледный, без сил вернулся Игорь домой. Швырнул на столик телефон…И синеглазка не позвонит и не ответит. Теперь уж точно никогда…В запыленном зеркале отразилась тень – обыкновенная, тень как тень. Он глядел на нее без страха - чего бояться, раз продолжения не будет, – с усталой обреченной тоской. Что продолжать? Унылую рабскую суету в непроглядном болоте мелкой рыбешкой среди зубастых акул? Тянуть постылую лямку до обеденного перерыва, снова тянуть, ожидая заветных шести часов и так без конца, без надежды на избавление? Нету отныне на то возможности, когда довелось нырнуть в иные воды! Жаль, не удержался на плаву, потерялся, страшась глубины. Но глубина продолжала манить – одна она и манила туда, где из тьмы рождается новое начало, шанс обрести радость…
На следующий день к досаде начальства и не упускающих повод позлорадствовать коллег Игорь не явился на совещание. Спустя время его обнаружили в собственной квартире, мертвого, повешенного на шнуре. На столе лежала предсмертная записка, смысл которой так и остался для всех загадкой: прыгающими буквами на белом листе красными чернилами в одну строчку: «Я ухожу, чтобы принять радость…».
Черный лотос
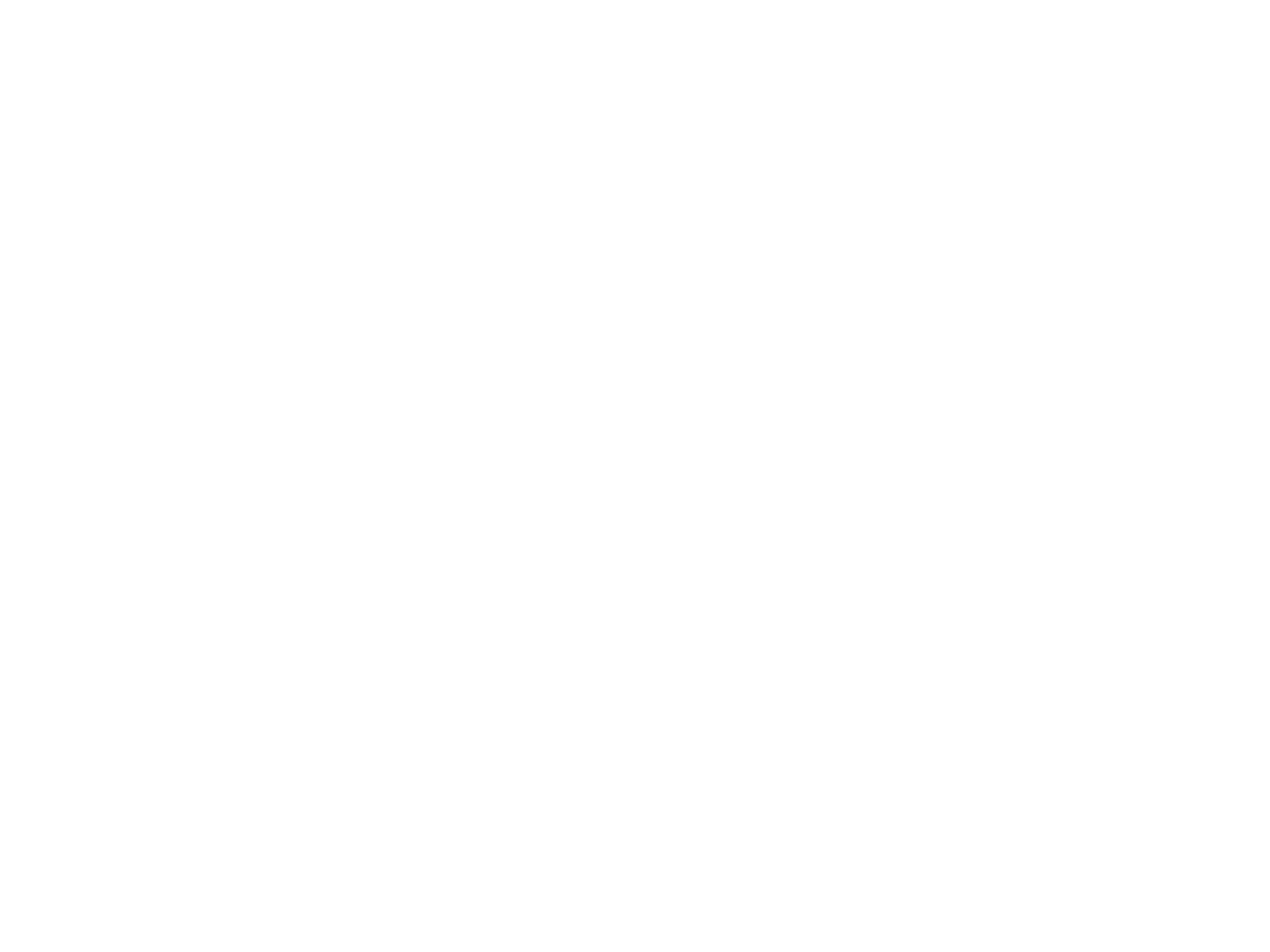
Художник Валентина Симонова
Тишина. Только ветер свистит. Сухая прохлада ночной пустыни. Замерзшие песчинки, влекомые притяжением невидимой сферы, опоясывают ее, облекая в тонкую вуаль, за которой формируется стан. Белым песком во тьме я возрождаюсь из тлена.
Кто звал меня, тревожа безмолвие ночи? Остывшая вязь у ног прячет из виду знак, начертанный на песке, он исчезает как трусливый тушканчик, почуявший хищника. Но мне хватает и мимолетного взгляда, чтобы вспомнить… Да, я узнаю свою старую сигиллу. Кто и зачем призвал меня в мир живых, начертав ее?
Неистовый ветер пустыни сорвал с головы капюшон, кольнул ноздри – едкий знакомый запах, немного приторный, как по мне. Так пахнет кровь. Помнится… Иду на запах…Полы хламиды развеваются под порывами ветра, я представляюсь сам себе похожим на грифа, безволосый, со сдернутым капюшоном, и эта мысль забавляет. Улыбаюсь, продолжая следовать. Куда ведет меня запах?
А…вот и он! Прожорливый песок почти заглотил туловище, едва видна макушка, да полуприкрытые глаза. Мертвец? Подхожу ближе. Тело пока отдает тепло, но жизнь в нем неуклонно тает. «Немилосердная жизнь», - заключаю я, глядя на кровоточащий обрубок на месте левой руки.
Что-то маленькое, живое шевелится рядом: неужели птица? Сидит себе на песке, серые крылья распростерты, точно готова в любой момент взмыть в черноту неба, на крючковатом клюве выделяется острый зубец. Сокол! Птица подозрительно прячет глаза. Не нравится она мне. Вернусь к соколу позже.
Перевожу взгляд на умирающего: не мужчина – мальчик, лет пятнадцати, не больше, кудри волос склеил мертвый песок, и они закоченели от ночного холода. В его полуприкрытых глазах – безмолвие пустыни, будто отражение той, ночной, что дала приют. «Какая же сила поддерживает в нем жизнь?» - задаюсь я вопросом. И сам тотчас нахожу ответ…
Я читаю его на руке мальчика, не тронутой увечьем, рука приковывает взгляд. Черная глина глубоко въелась в ладонь, но я смотрю сквозь и вижу суть. Иным зрением я постигаю природу и короткий сумеречный путь его угодившей в капкан души.
Я вижу мальчика-гончара за работой и не могу отвести глаз. Обе руки его, невредимые, вращают гончарный круг. И вот только что слепленный сосуд ржавого цвета раскален в топке, дверцы отворены, и на обжигающий пепел летит дымящий вар. Густой черный дым обволакивает сосуд, облачая его в темные одежды. Я сразу признаю в мальчике мастера, в совершенстве постигшего искусство черной керамики.
Но что это мастер мечтательно выводит на едва остывшей глине и, воровато оглядевшись, тут же стирает? Но я успеваю подсмотреть: лик, безупречные черты, голову покрывает немес[1]. Фараон, не иначе, - вот кого тайком рисует мальчик. Но зачем?
Провожу пальцем по ладони умирающего – перекрестье на линии жизни уводит меня дальше, вглубь. Я смотрю глазами юного гончара. Первым замечаю сокола, что ныне сторонится взгляда в ночной пустыне, - он сидит у меня на плече. Одетый в узорчатую ткань с цветами лотоса, опоясанный кожаным ремнем, я оказываюсь во дворце фараона. Не предваряющая апартаменты правителя Египта роскошная анфилада, нет, это строение куда проще: веранда вблизи храма, дополняющего дворцовый ансамбль недоступной своею строгостью. С веранды открывается живописнейший вид на сад (кружат голову ароматы персика и акации в цвету) и женскую половину дворца, - туда устремлен взор мальчика, его глазами все это великолепие наблюдаю и я.
Рядом стоит человек: леопардовая шкура ниспадает с плеча, на роскошном платье белого полотна вышивка – голова шакала и крест Анкх[2]. Жрец бога Анубиса говорит, обращаясь к юному мастеру, что любопытно: желтушного цвета глаза жреца нацелены на птицу, недвижно сидящую у мальчика на плече.
- Твои изделия изумительны, выше всяких похвал! Они станут достойным украшением храма. Однако позвал я тебя не только с тем, чтобы обсуждать гончарное искусство.
Мальчик смерил жреца мимолетным взглядом, в котором угадывалось недоверие и ничего более, и тотчас продолжил наблюдать, как красное солнце нисходит к верхушкам башен, обустроенных для женской половины.
- Твои глаза полыхают безумием, - продолжает жрец как ни в чем не бывало. – Мне знаком тот огонь яростного желания, его сияние слепит и жгет, и тебе не укрыть порожденных пороком мыслей, нечестивых и, увы, совершенно никчемных.
Щеки юноши зарделись. Не глядя на собеседника, он заговорил, и голос его стыдливо дрогнул – на морщинистом лице жреца на то обозначилось самодовольство.
- О каких мыслях ты толкуешь, жрец?
- О тех, что переполняют твою голову всякий раз, когда младшая из жен фараона, Мерит, покидает свои покои, чтобы прогуляться по саду. Или не прав я? -лукаво улыбается жрец.
- По-твоему нет чести в том, чтобы восторгаться красотой? Не далее, как минутами ранее ты сам выражал восхищение моими работами.
- Восхищаться тем, что тебе не принадлежит – еще полбеды, - не отвечая, продолжает жрец. – Нечестивы мечтания твои, идущие куда дальше преклонения перед красотой юной девы. Вижу, имеешь ты дерзость мечтать о троне. О власти грезишь, гончар?
Полный негодования взгляд мастера ударил по лицу жреца как меткая пощечина. Тот невольно отстранился.
- Не хочешь ли ты сказать, что лелеешь несбыточную мечту стать фараоном, только потому что имел неосторожность влюбиться в его младшую жену, Мерит?
Юноша молчал, наверное, минуту или две, жрец уже было решил, что ни слова не вытянет из него более, но, к облегчению служителя, мальчик подал голос:
- Я хочу говорить с богами.
Жрец в недоумении развел руками.
- Молись! Что мешает тебе?
- Я не желаю молиться. Я желаю говорить.
- Говорить можно лишь с равными. По праву ли ты почитаешь себя равным богам?
Жрец прищурился, не отводя взгляда от сокола, что по-прежнему бездельничал, рассиживаясь на плече мальчика, лишь изредка поднимая клюв к уходящему за башни солнцу.
- По праву фараона, да, будь я им. И я хочу быть…
Закатное солнце уже покинуло дворец и город, а юноша и жрец все еще стояли, молча глядя ему вслед.
- Давно у тебя этот сокол? – спрашивает жрец, скрипучим голосом разрушая благодатную тишь.
- Недавно. Дверь отворилась – он запархнул в мастерскую.
- Сокол – вольная птица. Как тебе удалось его приручить?
- А я и не приручал. Тогда я был погружен в работу и не сразу заметил его. Меня покорил его осмысленный взгляд: он сидел на скамейке для заготовленной утвари и смотрел, как я обжигаю глину. Сидел и смотрел, прямо, немигая. Я решил – он не будет помехой и оставил у себя. И с тех пор он все время так: сидит и смотрит и ничего…
- А знаешь, твое стремление не столь уж безнадежно, - неожиданно молвил жрец, в который раз резко меняя тему, и мальчик подумал, что мысль служителя культа подобна мелкой ладье, что крутые волны швыряют из одной пучины в другую во всеобъемлющей власти стихии. – Наш фараон не многим старше тебя и, скажу по секрету, - жрец наклонил голову к самому уху юноши, - я сильно сомневаюсь, что боги часто балуют его беседами. Ты – другое дело. Твои руки – руки мастера творят из грубой глины подлинные чудеса. Несправедливо, правда? Не ты ли достоин внимания богов?
Не дожидаясь ответа, жрец продолжал:
- Ведомо ли тебе, что Великий Ра когда-то разрубил древо Ишед на две части с тем, чтобы отворить врата горизонта и захода солнца в обновленный мир? А ведомо ли тебе, что с той поры и мир разделился надвое? И тебе знакома лишь одна солнечная его половина – половина Ра. Но есть и другая – половина Апофиса, предвечный мрак, где господствует Хаос. И Хаос позволяет творить… И сырая глина обретает форму. Только глина – есть сама судьба. На той, другой стороне другим правителям на листьях иного Древа иные боги отмечают время[3]. Из Хаоса происходит все, а значит все - возможно.
Чем дольше говорил жрец, тем сильнее охватывало юношу волнение, и тем сложнее было его скрывать, и вскоре от былого безразличия не осталось и следа. С мольбой в голосе он произнес, едва жрец прервался:
- Если истинны слова твои, жрец, прошу, скажи: как попасть на ту, другую сторону?
Жрец помедлил не долее пары секунд, а после изрек торжественно, вполголоса, как посвящают в сакральные тайны:
- Черный лотос! Не тот, что растет в водах Нила. Другой – тот, что открывает лепестки алмазному рассвету в белых песках пустыни, оазисе, непостижимом ни расстоянием, ни временем. Я выделаю из него экстракт. Испив его, ты откроешь своему восприятию теневую половину священного древа Ишед. Тогда ты сможешь извлечь из Хаоса то, о чем грезишь.
Я смотрю глазами мальчика, и душа жреца бога Анубиса предстает передо мной как развернутый в зените солнца манускрипт. Я чувствую боязнь и дерзкое желание юного мастера. Итог беседы предрешен, и мне более не интересно наблюдать эту сцену.
Но пока говорил жрец, я успел кое-что отметить для себя, обратив внимание на сокола – птица, до поры меланхолично наблюдавшая даль, при упоминании жрецом черного лотоса вздрогнула тельцем и, наконец, моргнула, потом, будто спохватившись, снова застыла, продолжая сверлить взглядом далекий горизонт.
И я среди ночного мрака пустыни гляжу на сокола, что по-прежнему не желает покидать своего умирающего друга: сокол, как и раньше, отворачивает голову, ловит клювом на лету вихрящиеся в воздухе песчинки. «Значит, не время еще», - думаю я, нехотя возвращаясь к узорам на ладони мальчика.
И я, смотрящий чужими глазами, застаю себя в храме, узнаю каменные рельефы с изображениями шакалоголового Анубиса. Чую запах сандала, он исходит от курильниц, установленных на алтаре рядом с двумя алебастровыми чашами, различными по размеру. Ту, что поменьше, жрец наполняет темной тягучей жидкостью, пока другая остается пустой.
По знаку жреца юноша подходит к алтарю и с нескрываемым трепетом принимает наполненную экстрактом чашу из рук служителя.
- Пей! – приказывает жрец, и я чувствую, как он упивается своей властью, одновременно опасаясь лишиться ее в любой момент, и оттого голос его дрожит, находя изобличающий отклик в стенах храма.
…Опасливый первый глоток – горечь во рту, тьма застит глаза, будто в единый миг на мир обрушилась ночь. Не успевает мальчик поддаться панике, как вместе с тьмой сознание затягивает в водоворот грез. И мальчик начинает грезить. И тьма уже не так страшна, более того – сквозь тьму можно видеть. Алчущий зрить сокровищницу тьмы мальчик делает еще глоток, смело, жадно выпивая до дна вязкое содержимое чаши. Тогда темнота расступается, позволяя видеть больше.
Но то, что мальчик сумел разглядеть сквозь мрак, пускай подождет, - решаю я, возвращая внимание в храм, где вожделеющий силу жрец пристально с нетерпением вглядывается в чернь, застлавшую взор юноши. Мне близки его надежды как никому другому, ибо я сам когда-то гнался за силой, не ведая, что в этой гонке до изнеможения загоняю сам себя и награда победителю - тлен.
Жрец не мудрствует и не стоит за ценой. Он нервно проводит рукой перед застывшим в блаженной маске лицом мальчика.
- Грезишь…- удовлетворенно приговаривает жрец. – Надеюсь, руки мастера окажутся достойными внимания бога мира по ту сторону священной реки Стикс. Глупый мальчишка, мечтал говорить с богами! Ты был настолько ослеплен желанием, что не заметил бога у себя под носом. Зато я заметил, я узнал. И теперь мой черед говорить с богом.
Жрец вдруг чувствует затылком легкий ожег, как будто насекомое ужалило в шею. Оберачивается. «Как я мог забыть!» Это сокол, помещенный по настоянию жреца в клетку, все это время сверлил его взглядом. Избегая укоризненного взгляда птицы, раздобыл льняное полотенце, первое попавшееся под руку, торопливо накрывает им клетку, повторяя сквозь зубы: «Нечего зыркать, нечего, не с тобой я желаю говорить, нет».
Сокол более не досаждает глазу, и жрец возвращается к юноше, грезящему наяву. Пускай служитель Анубиса давным-давно утратил благосклонность своего повелителя, и тот давно уже не принимал его даров, зато в закромах у него имелся приличный запас хирургического инструментария, само по себе наличие которого он объяснял врачебными практиками, которые на деле проводил исключительно для отвода глаз, поскольку даром врачевания, впрочем, как и какими-либо иными талантами был богами обижен, а инвентарь использовал на себе угодные, всякому живому членовредительские цели, дабы изыскать, в конце концов, благосклонность шакалоголового бога посредством кровавой жертвы.
Да понапрасну все, сколько крови не лей – мало, не достигали слуха Анубиса воззвания жреца. Реки крови пролил жрец, к тому времени, как дошло до него, что значение имеет не количество заполненных кровью амфор, а достоинств самой крови, истинная ценность жертвы, заслуживающей внимание богов.
И вот почти отчаявшийся жрец повстречал мальчика-гончара, искусного мастера. И он видел: чтобы наблюдать за его работой бог самолично спустился с небес! Тогда и пришло озарение: руки мастера – то, что поможет достучаться до Анубиса! И хитрость жреца дала результат: опоенный, погруженный в дрему мальчик был в его полной власти.
Юноша сам положил обе руки на алтарь. Жрец, вытащив из ящика с инструментарием хирургическую пилу, принимается отрешенно и методично, как того требует ритуал, орудовать ею, заливая кровью алтарь. Покончив с одной рукой, он наполняет большую алебастровую чашу кровью из раны. Затем принимается наспех зашивать. Время поджимает, подходит очередь второй кисти – дело не из легких, мышцы устали, а шьет он из рук вон плохо – того и гляди испустит дух мальчик от потери крови прямо на алтаре.
Утомительный процесс жертвоприношения так увлекает жреца, что он не замечает у себя за спиной ни шороха, ни жалящего взгляда. Потому берет его оторопь и пригвождает к месту, когда жало то касается его лица. Не сокол, чудом вырвавшийся из одетой в покрывало клетки, глядит на него, и он узнает того, кто глядит. И раньше знал (иначе, к чему вся затея?), но теперь и тот, кто глядел и жалил, узрел жреца, и сносить его внимание боязно до самого смертного ужаса.
И затрепетал жрец, тщетно старается он вымолвить слово – немеют губы, желчь заливает зрачки до слепоты пред небесным сиянием ока Гора[4]. И падает ниц жрец, в мыслях проклиная сокола, гонит его прочь из храма Анубиса и своей висящей на волоске жизни. И вылетает сокол в распахнутую настежь внезапным сквозняком дверь. А следом за ним храм Анубиса покидает и жертвенный мальчик.
И воцарилось в храме смятение. Разнузданный ветер перевернул вверх дном все, что осталось на алтаре. Вихрь песчаной пыли уронил чашу, и жертвенная кровь растеклась по лоскуткам напольной мозаики, лишь обрубок плоти мастера оставался лежать как обглоданная собакой кость, источая скверну.
А мальчик, тем временем, еле волочил ноги в безлюдной ночи белой пустыни. Он двигался, дышал, вроде бы жил остатками духа, в то время как душа его, принесенная в жертву, уже пересекла Стикс. Но жрец не обманул: черный лотос в действительности приоткрывал дверь, позволил таящему разуму юноши заглянуть за черту, туда, где господствуют мрак и Хаос, и на той запредельной стороне разум запечатлел сигиллу. Незыблемый вечный дух, провожаемый соколом из поднебесья, привел мальчика в пустыню, где из последних сил спасенной правой рукой мастер начертал последнее свое творение – сигиллу, что призвала меня, возродив из тлена.
И теперь я знаю – зачем. Знает и сокол. Он более не прячет взор, и крылья расправлены как два могучих серпа. Око Гора, что недавно повергло в трепет подлого жреца бога по ту сторону Стикса, в упор глядит на меня. Мне становится неуютно, я накидываю на голову капюшон.
- Что скажешь ты, явившийся из мрака? – произносит сокол, а, может, мыслит.
- Я догадываюсь, зачем ты призвал меня, посланник небес, заставив одурманенный разум мальчишки запомнить сигиллу, - говорю я.
- И ты готов исполнить мою просьбу?
Но я не все еще уяснил для себя и не тороплюсь отвечать.
- Почему ты сам не помог юнцу, раз он настолько дорог тебе, что ты решился впустить в мир порождение Хаоса?
- Таков мой удел. Я не вправе вмешиваться. Мальчик сам сделал выбор, поддавшись соблазну черного лотоса. Он мог поступить иначе. Я всегда был рядом, а он не пытался со мной заговорить, хотя всегда мечтал об этом.
- Как это по-человечески, грезить о боге, не замечая того у себя под носом… И как это по-божески, смотреть и слушать, слушать и смотреть и ничего не делать…
- Да, боги всегда поступают именно так, - отвечает сокол, складывая крылья. – Потому я и призвал тебя.
Я устало скидываю капюшон.
- Душу мастера уже не спасти. Она принадлежит Анубису. Воскреснет мальчишка, который в лучшем случае выбьется в подмастерье, мастером ему не быть ни по призванию, ни по судьбе.
Сокол удрученно качает головой, закрывает глаза и на минуту погружается в безмолвие.
- Тебе есть что предложить? – спрашивает он, очнувшись.
- Вдохни мою душу в это тело, - говорю я, показывая на умирающего, - и я сумею покарать жреца, даже с одной рукой.
Глаза сокола полыхнули синим.
- Но ты же ничего не будешь помнить!
Мой рот кривится в змеиной улыбке.
- Что худого в том, чтобы стереть из памяти столетия тлена? Короткие годы жизней уж давно затерялись в белых барханах пустыни, и знойное солнце давно испепелило память о них, а то, что осталось от былого развеялось в ветряной пыли.
- Допустим…- пламя синевы тлеет во взоре сокола, и он повторяет, размышляя, медленно и тихи-тихо. - Допустим, ты предашь жреца мучительной смерти – другого я от тебя не жду, но когда-нибудь настанет и твой черед умереть, и после смерти ты снова возвратишься туда, откуда прибыл. Тлен…Тебе никогда не достучаться до небес!
- Почем знать… Мальчишка-гончар захотел стать фараоном, говорить с богами. Не успел пожелать, как небеса сами постучались в его дверь, как ни одному жрецу и не снилось. Чем хуже я?
- Как знать… - произносит сокол.
- А еще я вижу жреца. Он в страхе встречает рассвет на пороге храма, не успев вытереть кровь у подножья алтаря. И изувеченный им мальчик отворяет двери с первыми лучами солнца – последнего рассвета в жизни служителя. Жрец знает кто пришел за ним, но страх опутывает его целиком, лишая последнего шанса достойно уйти, и он мечется от стены к стене как бешеная крыса, и как крыса принимает смерть.
- Как знать… - повторяет сокол и смотрит за горизонт, встречая оком золотистую полосу надвигающегося рассвета. – Как знать… Пусть будет так. Но знай: я буду следить за тобой!
- Знаю, - отвечаю я, печально улыбаясь. – Знаю. Наблюдать и не вмешиваться – все боги поступают так. Ты будешь смотреть и слушать.
- Да, - повторяет сокол, - слушать и смотреть. И ждать… Глядишь, и ты когда-нибудь захочешь стать фараоном!
® Ядвига Симанова
[1] Немес – царский головной убор в Древнем Египте, один из символов власти фараона
[2] Голова шакала и крест Анкх – облик бога Анубиса – человек с головой шакала или собаки, в руке он держит крест Анкх - ключ к загробной жизни, символизирующий бессмертие души
[3] Согласно древнеегипетской мифологии, на листочках древа Ишед боги Тот и Сешат записывают годы правления фараона
[4] Левый соколиный глаз бога Гора был выбит в его схватке с Сетом. Правый глаз Гора символизировал Солнце, левый – Луну, его повреждением объясняли фазы Луны, этот глаз исцелил бог Тот
Кто звал меня, тревожа безмолвие ночи? Остывшая вязь у ног прячет из виду знак, начертанный на песке, он исчезает как трусливый тушканчик, почуявший хищника. Но мне хватает и мимолетного взгляда, чтобы вспомнить… Да, я узнаю свою старую сигиллу. Кто и зачем призвал меня в мир живых, начертав ее?
Неистовый ветер пустыни сорвал с головы капюшон, кольнул ноздри – едкий знакомый запах, немного приторный, как по мне. Так пахнет кровь. Помнится… Иду на запах…Полы хламиды развеваются под порывами ветра, я представляюсь сам себе похожим на грифа, безволосый, со сдернутым капюшоном, и эта мысль забавляет. Улыбаюсь, продолжая следовать. Куда ведет меня запах?
А…вот и он! Прожорливый песок почти заглотил туловище, едва видна макушка, да полуприкрытые глаза. Мертвец? Подхожу ближе. Тело пока отдает тепло, но жизнь в нем неуклонно тает. «Немилосердная жизнь», - заключаю я, глядя на кровоточащий обрубок на месте левой руки.
Что-то маленькое, живое шевелится рядом: неужели птица? Сидит себе на песке, серые крылья распростерты, точно готова в любой момент взмыть в черноту неба, на крючковатом клюве выделяется острый зубец. Сокол! Птица подозрительно прячет глаза. Не нравится она мне. Вернусь к соколу позже.
Перевожу взгляд на умирающего: не мужчина – мальчик, лет пятнадцати, не больше, кудри волос склеил мертвый песок, и они закоченели от ночного холода. В его полуприкрытых глазах – безмолвие пустыни, будто отражение той, ночной, что дала приют. «Какая же сила поддерживает в нем жизнь?» - задаюсь я вопросом. И сам тотчас нахожу ответ…
Я читаю его на руке мальчика, не тронутой увечьем, рука приковывает взгляд. Черная глина глубоко въелась в ладонь, но я смотрю сквозь и вижу суть. Иным зрением я постигаю природу и короткий сумеречный путь его угодившей в капкан души.
Я вижу мальчика-гончара за работой и не могу отвести глаз. Обе руки его, невредимые, вращают гончарный круг. И вот только что слепленный сосуд ржавого цвета раскален в топке, дверцы отворены, и на обжигающий пепел летит дымящий вар. Густой черный дым обволакивает сосуд, облачая его в темные одежды. Я сразу признаю в мальчике мастера, в совершенстве постигшего искусство черной керамики.
Но что это мастер мечтательно выводит на едва остывшей глине и, воровато оглядевшись, тут же стирает? Но я успеваю подсмотреть: лик, безупречные черты, голову покрывает немес[1]. Фараон, не иначе, - вот кого тайком рисует мальчик. Но зачем?
Провожу пальцем по ладони умирающего – перекрестье на линии жизни уводит меня дальше, вглубь. Я смотрю глазами юного гончара. Первым замечаю сокола, что ныне сторонится взгляда в ночной пустыне, - он сидит у меня на плече. Одетый в узорчатую ткань с цветами лотоса, опоясанный кожаным ремнем, я оказываюсь во дворце фараона. Не предваряющая апартаменты правителя Египта роскошная анфилада, нет, это строение куда проще: веранда вблизи храма, дополняющего дворцовый ансамбль недоступной своею строгостью. С веранды открывается живописнейший вид на сад (кружат голову ароматы персика и акации в цвету) и женскую половину дворца, - туда устремлен взор мальчика, его глазами все это великолепие наблюдаю и я.
Рядом стоит человек: леопардовая шкура ниспадает с плеча, на роскошном платье белого полотна вышивка – голова шакала и крест Анкх[2]. Жрец бога Анубиса говорит, обращаясь к юному мастеру, что любопытно: желтушного цвета глаза жреца нацелены на птицу, недвижно сидящую у мальчика на плече.
- Твои изделия изумительны, выше всяких похвал! Они станут достойным украшением храма. Однако позвал я тебя не только с тем, чтобы обсуждать гончарное искусство.
Мальчик смерил жреца мимолетным взглядом, в котором угадывалось недоверие и ничего более, и тотчас продолжил наблюдать, как красное солнце нисходит к верхушкам башен, обустроенных для женской половины.
- Твои глаза полыхают безумием, - продолжает жрец как ни в чем не бывало. – Мне знаком тот огонь яростного желания, его сияние слепит и жгет, и тебе не укрыть порожденных пороком мыслей, нечестивых и, увы, совершенно никчемных.
Щеки юноши зарделись. Не глядя на собеседника, он заговорил, и голос его стыдливо дрогнул – на морщинистом лице жреца на то обозначилось самодовольство.
- О каких мыслях ты толкуешь, жрец?
- О тех, что переполняют твою голову всякий раз, когда младшая из жен фараона, Мерит, покидает свои покои, чтобы прогуляться по саду. Или не прав я? -лукаво улыбается жрец.
- По-твоему нет чести в том, чтобы восторгаться красотой? Не далее, как минутами ранее ты сам выражал восхищение моими работами.
- Восхищаться тем, что тебе не принадлежит – еще полбеды, - не отвечая, продолжает жрец. – Нечестивы мечтания твои, идущие куда дальше преклонения перед красотой юной девы. Вижу, имеешь ты дерзость мечтать о троне. О власти грезишь, гончар?
Полный негодования взгляд мастера ударил по лицу жреца как меткая пощечина. Тот невольно отстранился.
- Не хочешь ли ты сказать, что лелеешь несбыточную мечту стать фараоном, только потому что имел неосторожность влюбиться в его младшую жену, Мерит?
Юноша молчал, наверное, минуту или две, жрец уже было решил, что ни слова не вытянет из него более, но, к облегчению служителя, мальчик подал голос:
- Я хочу говорить с богами.
Жрец в недоумении развел руками.
- Молись! Что мешает тебе?
- Я не желаю молиться. Я желаю говорить.
- Говорить можно лишь с равными. По праву ли ты почитаешь себя равным богам?
Жрец прищурился, не отводя взгляда от сокола, что по-прежнему бездельничал, рассиживаясь на плече мальчика, лишь изредка поднимая клюв к уходящему за башни солнцу.
- По праву фараона, да, будь я им. И я хочу быть…
Закатное солнце уже покинуло дворец и город, а юноша и жрец все еще стояли, молча глядя ему вслед.
- Давно у тебя этот сокол? – спрашивает жрец, скрипучим голосом разрушая благодатную тишь.
- Недавно. Дверь отворилась – он запархнул в мастерскую.
- Сокол – вольная птица. Как тебе удалось его приручить?
- А я и не приручал. Тогда я был погружен в работу и не сразу заметил его. Меня покорил его осмысленный взгляд: он сидел на скамейке для заготовленной утвари и смотрел, как я обжигаю глину. Сидел и смотрел, прямо, немигая. Я решил – он не будет помехой и оставил у себя. И с тех пор он все время так: сидит и смотрит и ничего…
- А знаешь, твое стремление не столь уж безнадежно, - неожиданно молвил жрец, в который раз резко меняя тему, и мальчик подумал, что мысль служителя культа подобна мелкой ладье, что крутые волны швыряют из одной пучины в другую во всеобъемлющей власти стихии. – Наш фараон не многим старше тебя и, скажу по секрету, - жрец наклонил голову к самому уху юноши, - я сильно сомневаюсь, что боги часто балуют его беседами. Ты – другое дело. Твои руки – руки мастера творят из грубой глины подлинные чудеса. Несправедливо, правда? Не ты ли достоин внимания богов?
Не дожидаясь ответа, жрец продолжал:
- Ведомо ли тебе, что Великий Ра когда-то разрубил древо Ишед на две части с тем, чтобы отворить врата горизонта и захода солнца в обновленный мир? А ведомо ли тебе, что с той поры и мир разделился надвое? И тебе знакома лишь одна солнечная его половина – половина Ра. Но есть и другая – половина Апофиса, предвечный мрак, где господствует Хаос. И Хаос позволяет творить… И сырая глина обретает форму. Только глина – есть сама судьба. На той, другой стороне другим правителям на листьях иного Древа иные боги отмечают время[3]. Из Хаоса происходит все, а значит все - возможно.
Чем дольше говорил жрец, тем сильнее охватывало юношу волнение, и тем сложнее было его скрывать, и вскоре от былого безразличия не осталось и следа. С мольбой в голосе он произнес, едва жрец прервался:
- Если истинны слова твои, жрец, прошу, скажи: как попасть на ту, другую сторону?
Жрец помедлил не долее пары секунд, а после изрек торжественно, вполголоса, как посвящают в сакральные тайны:
- Черный лотос! Не тот, что растет в водах Нила. Другой – тот, что открывает лепестки алмазному рассвету в белых песках пустыни, оазисе, непостижимом ни расстоянием, ни временем. Я выделаю из него экстракт. Испив его, ты откроешь своему восприятию теневую половину священного древа Ишед. Тогда ты сможешь извлечь из Хаоса то, о чем грезишь.
Я смотрю глазами мальчика, и душа жреца бога Анубиса предстает передо мной как развернутый в зените солнца манускрипт. Я чувствую боязнь и дерзкое желание юного мастера. Итог беседы предрешен, и мне более не интересно наблюдать эту сцену.
Но пока говорил жрец, я успел кое-что отметить для себя, обратив внимание на сокола – птица, до поры меланхолично наблюдавшая даль, при упоминании жрецом черного лотоса вздрогнула тельцем и, наконец, моргнула, потом, будто спохватившись, снова застыла, продолжая сверлить взглядом далекий горизонт.
И я среди ночного мрака пустыни гляжу на сокола, что по-прежнему не желает покидать своего умирающего друга: сокол, как и раньше, отворачивает голову, ловит клювом на лету вихрящиеся в воздухе песчинки. «Значит, не время еще», - думаю я, нехотя возвращаясь к узорам на ладони мальчика.
И я, смотрящий чужими глазами, застаю себя в храме, узнаю каменные рельефы с изображениями шакалоголового Анубиса. Чую запах сандала, он исходит от курильниц, установленных на алтаре рядом с двумя алебастровыми чашами, различными по размеру. Ту, что поменьше, жрец наполняет темной тягучей жидкостью, пока другая остается пустой.
По знаку жреца юноша подходит к алтарю и с нескрываемым трепетом принимает наполненную экстрактом чашу из рук служителя.
- Пей! – приказывает жрец, и я чувствую, как он упивается своей властью, одновременно опасаясь лишиться ее в любой момент, и оттого голос его дрожит, находя изобличающий отклик в стенах храма.
…Опасливый первый глоток – горечь во рту, тьма застит глаза, будто в единый миг на мир обрушилась ночь. Не успевает мальчик поддаться панике, как вместе с тьмой сознание затягивает в водоворот грез. И мальчик начинает грезить. И тьма уже не так страшна, более того – сквозь тьму можно видеть. Алчущий зрить сокровищницу тьмы мальчик делает еще глоток, смело, жадно выпивая до дна вязкое содержимое чаши. Тогда темнота расступается, позволяя видеть больше.
Но то, что мальчик сумел разглядеть сквозь мрак, пускай подождет, - решаю я, возвращая внимание в храм, где вожделеющий силу жрец пристально с нетерпением вглядывается в чернь, застлавшую взор юноши. Мне близки его надежды как никому другому, ибо я сам когда-то гнался за силой, не ведая, что в этой гонке до изнеможения загоняю сам себя и награда победителю - тлен.
Жрец не мудрствует и не стоит за ценой. Он нервно проводит рукой перед застывшим в блаженной маске лицом мальчика.
- Грезишь…- удовлетворенно приговаривает жрец. – Надеюсь, руки мастера окажутся достойными внимания бога мира по ту сторону священной реки Стикс. Глупый мальчишка, мечтал говорить с богами! Ты был настолько ослеплен желанием, что не заметил бога у себя под носом. Зато я заметил, я узнал. И теперь мой черед говорить с богом.
Жрец вдруг чувствует затылком легкий ожег, как будто насекомое ужалило в шею. Оберачивается. «Как я мог забыть!» Это сокол, помещенный по настоянию жреца в клетку, все это время сверлил его взглядом. Избегая укоризненного взгляда птицы, раздобыл льняное полотенце, первое попавшееся под руку, торопливо накрывает им клетку, повторяя сквозь зубы: «Нечего зыркать, нечего, не с тобой я желаю говорить, нет».
Сокол более не досаждает глазу, и жрец возвращается к юноше, грезящему наяву. Пускай служитель Анубиса давным-давно утратил благосклонность своего повелителя, и тот давно уже не принимал его даров, зато в закромах у него имелся приличный запас хирургического инструментария, само по себе наличие которого он объяснял врачебными практиками, которые на деле проводил исключительно для отвода глаз, поскольку даром врачевания, впрочем, как и какими-либо иными талантами был богами обижен, а инвентарь использовал на себе угодные, всякому живому членовредительские цели, дабы изыскать, в конце концов, благосклонность шакалоголового бога посредством кровавой жертвы.
Да понапрасну все, сколько крови не лей – мало, не достигали слуха Анубиса воззвания жреца. Реки крови пролил жрец, к тому времени, как дошло до него, что значение имеет не количество заполненных кровью амфор, а достоинств самой крови, истинная ценность жертвы, заслуживающей внимание богов.
И вот почти отчаявшийся жрец повстречал мальчика-гончара, искусного мастера. И он видел: чтобы наблюдать за его работой бог самолично спустился с небес! Тогда и пришло озарение: руки мастера – то, что поможет достучаться до Анубиса! И хитрость жреца дала результат: опоенный, погруженный в дрему мальчик был в его полной власти.
Юноша сам положил обе руки на алтарь. Жрец, вытащив из ящика с инструментарием хирургическую пилу, принимается отрешенно и методично, как того требует ритуал, орудовать ею, заливая кровью алтарь. Покончив с одной рукой, он наполняет большую алебастровую чашу кровью из раны. Затем принимается наспех зашивать. Время поджимает, подходит очередь второй кисти – дело не из легких, мышцы устали, а шьет он из рук вон плохо – того и гляди испустит дух мальчик от потери крови прямо на алтаре.
Утомительный процесс жертвоприношения так увлекает жреца, что он не замечает у себя за спиной ни шороха, ни жалящего взгляда. Потому берет его оторопь и пригвождает к месту, когда жало то касается его лица. Не сокол, чудом вырвавшийся из одетой в покрывало клетки, глядит на него, и он узнает того, кто глядит. И раньше знал (иначе, к чему вся затея?), но теперь и тот, кто глядел и жалил, узрел жреца, и сносить его внимание боязно до самого смертного ужаса.
И затрепетал жрец, тщетно старается он вымолвить слово – немеют губы, желчь заливает зрачки до слепоты пред небесным сиянием ока Гора[4]. И падает ниц жрец, в мыслях проклиная сокола, гонит его прочь из храма Анубиса и своей висящей на волоске жизни. И вылетает сокол в распахнутую настежь внезапным сквозняком дверь. А следом за ним храм Анубиса покидает и жертвенный мальчик.
И воцарилось в храме смятение. Разнузданный ветер перевернул вверх дном все, что осталось на алтаре. Вихрь песчаной пыли уронил чашу, и жертвенная кровь растеклась по лоскуткам напольной мозаики, лишь обрубок плоти мастера оставался лежать как обглоданная собакой кость, источая скверну.
А мальчик, тем временем, еле волочил ноги в безлюдной ночи белой пустыни. Он двигался, дышал, вроде бы жил остатками духа, в то время как душа его, принесенная в жертву, уже пересекла Стикс. Но жрец не обманул: черный лотос в действительности приоткрывал дверь, позволил таящему разуму юноши заглянуть за черту, туда, где господствуют мрак и Хаос, и на той запредельной стороне разум запечатлел сигиллу. Незыблемый вечный дух, провожаемый соколом из поднебесья, привел мальчика в пустыню, где из последних сил спасенной правой рукой мастер начертал последнее свое творение – сигиллу, что призвала меня, возродив из тлена.
И теперь я знаю – зачем. Знает и сокол. Он более не прячет взор, и крылья расправлены как два могучих серпа. Око Гора, что недавно повергло в трепет подлого жреца бога по ту сторону Стикса, в упор глядит на меня. Мне становится неуютно, я накидываю на голову капюшон.
- Что скажешь ты, явившийся из мрака? – произносит сокол, а, может, мыслит.
- Я догадываюсь, зачем ты призвал меня, посланник небес, заставив одурманенный разум мальчишки запомнить сигиллу, - говорю я.
- И ты готов исполнить мою просьбу?
Но я не все еще уяснил для себя и не тороплюсь отвечать.
- Почему ты сам не помог юнцу, раз он настолько дорог тебе, что ты решился впустить в мир порождение Хаоса?
- Таков мой удел. Я не вправе вмешиваться. Мальчик сам сделал выбор, поддавшись соблазну черного лотоса. Он мог поступить иначе. Я всегда был рядом, а он не пытался со мной заговорить, хотя всегда мечтал об этом.
- Как это по-человечески, грезить о боге, не замечая того у себя под носом… И как это по-божески, смотреть и слушать, слушать и смотреть и ничего не делать…
- Да, боги всегда поступают именно так, - отвечает сокол, складывая крылья. – Потому я и призвал тебя.
Я устало скидываю капюшон.
- Душу мастера уже не спасти. Она принадлежит Анубису. Воскреснет мальчишка, который в лучшем случае выбьется в подмастерье, мастером ему не быть ни по призванию, ни по судьбе.
Сокол удрученно качает головой, закрывает глаза и на минуту погружается в безмолвие.
- Тебе есть что предложить? – спрашивает он, очнувшись.
- Вдохни мою душу в это тело, - говорю я, показывая на умирающего, - и я сумею покарать жреца, даже с одной рукой.
Глаза сокола полыхнули синим.
- Но ты же ничего не будешь помнить!
Мой рот кривится в змеиной улыбке.
- Что худого в том, чтобы стереть из памяти столетия тлена? Короткие годы жизней уж давно затерялись в белых барханах пустыни, и знойное солнце давно испепелило память о них, а то, что осталось от былого развеялось в ветряной пыли.
- Допустим…- пламя синевы тлеет во взоре сокола, и он повторяет, размышляя, медленно и тихи-тихо. - Допустим, ты предашь жреца мучительной смерти – другого я от тебя не жду, но когда-нибудь настанет и твой черед умереть, и после смерти ты снова возвратишься туда, откуда прибыл. Тлен…Тебе никогда не достучаться до небес!
- Почем знать… Мальчишка-гончар захотел стать фараоном, говорить с богами. Не успел пожелать, как небеса сами постучались в его дверь, как ни одному жрецу и не снилось. Чем хуже я?
- Как знать… - произносит сокол.
- А еще я вижу жреца. Он в страхе встречает рассвет на пороге храма, не успев вытереть кровь у подножья алтаря. И изувеченный им мальчик отворяет двери с первыми лучами солнца – последнего рассвета в жизни служителя. Жрец знает кто пришел за ним, но страх опутывает его целиком, лишая последнего шанса достойно уйти, и он мечется от стены к стене как бешеная крыса, и как крыса принимает смерть.
- Как знать… - повторяет сокол и смотрит за горизонт, встречая оком золотистую полосу надвигающегося рассвета. – Как знать… Пусть будет так. Но знай: я буду следить за тобой!
- Знаю, - отвечаю я, печально улыбаясь. – Знаю. Наблюдать и не вмешиваться – все боги поступают так. Ты будешь смотреть и слушать.
- Да, - повторяет сокол, - слушать и смотреть. И ждать… Глядишь, и ты когда-нибудь захочешь стать фараоном!
® Ядвига Симанова
[1] Немес – царский головной убор в Древнем Египте, один из символов власти фараона
[2] Голова шакала и крест Анкх – облик бога Анубиса – человек с головой шакала или собаки, в руке он держит крест Анкх - ключ к загробной жизни, символизирующий бессмертие души
[3] Согласно древнеегипетской мифологии, на листочках древа Ишед боги Тот и Сешат записывают годы правления фараона
[4] Левый соколиный глаз бога Гора был выбит в его схватке с Сетом. Правый глаз Гора символизировал Солнце, левый – Луну, его повреждением объясняли фазы Луны, этот глаз исцелил бог Тот
Не-человек
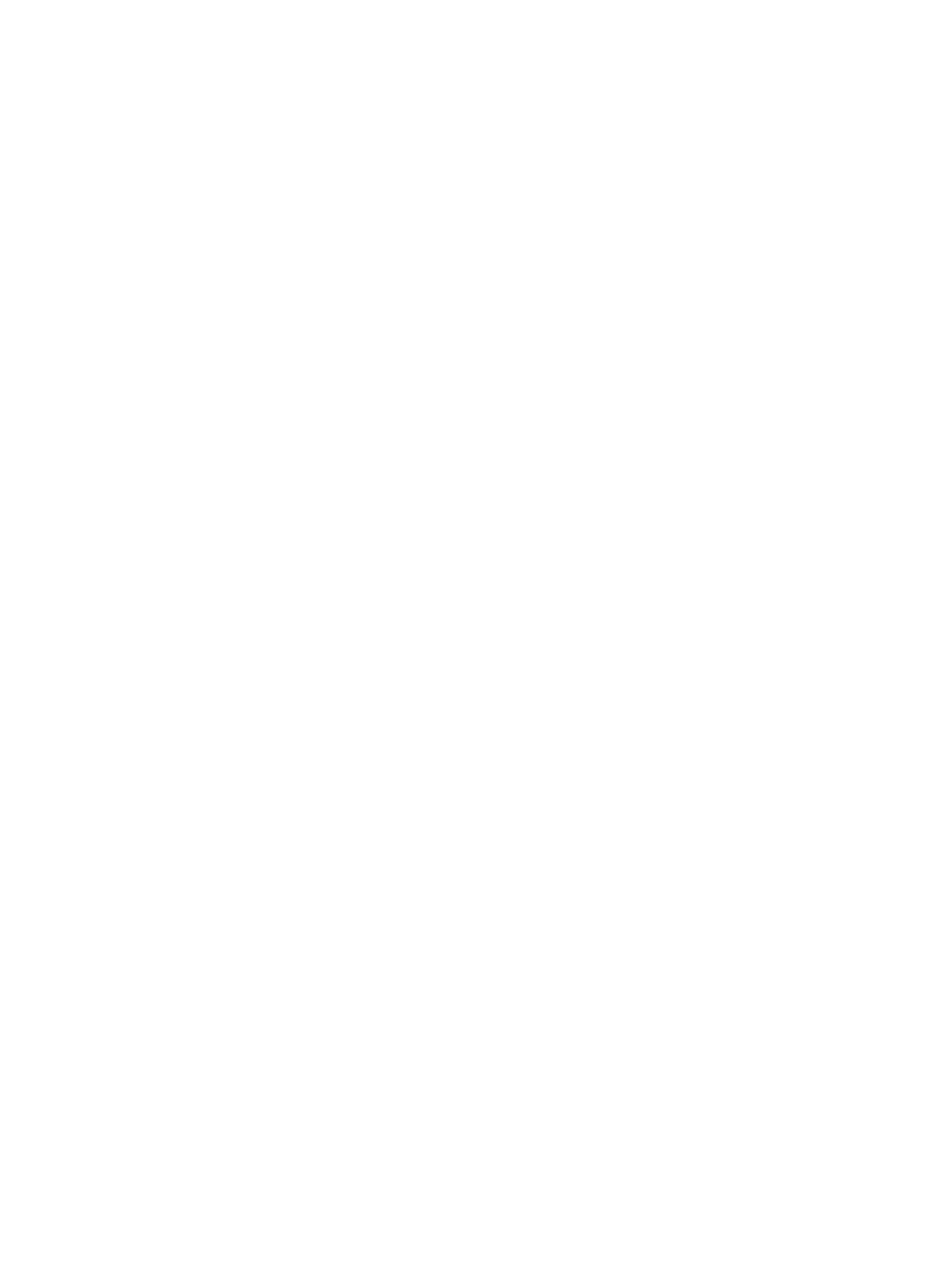
Художник Валентина Симонова
Таня лежала на кушетке. Мягкий утренний свет из оконца опускался на ее босые ступни, латексный валик массировал затылок, снимая напряжение. Рука потянулась за стаканом воды, оставленном на миниатюрном столике предупредительной Сьюзен – такое обращение к себе предпочитает Танина психотерапевт. Это к ней в кабинет девушка, собственно, и ворвалась чуть свет в чем была - в ночной сорочке, из палаты бегом, босая по голому полу.
- Сюзанна Аркадьевна, - в который раз пыталась начать Таня. Сделав глоток, она перебирала в уме нескладную конструкцию из образов и ощущений случившегося. Именно случившегося, - в том, что кошмар не происходил из сна или продуцировался видением, а случился и состоял его чудовищный необъяснимый парадокс. Она была уверена в этом, как и в том, что все сказанное ею и все, что еще предстоит рассказать, будет искажением, смысловым вывертом, потому как истинно виденное ею и с нею произошедшее невозможно описать никакими словами.
- Сьюзен, - поправила Таню терапевт, бархатным голосом приглашая, участливым взглядом из-под круглых очков в тонкой как ниточка оправе взывая к доверию.
- Сьюзен, - Таня поставила стакан на место, нечаянно дрогнув рукой, и несколько прозрачных капель скользнули на стеклянный столик. – Мне привиделся жуткий кошмар. Звучит нелепо, но я не могу отделаться от мысли, что это было наяву.
Доктор ободряюще кивнула, всем видом выражая серьезность, внимая каждому слову, и Таня продолжила, не отрывая взгляда от замерших капель:
- Я все еще находилась в палате, только помещение будто бы опустело: ни мебели, ни окон, ни стен. Тем не менее, иной недоступной пониманию частью разума я переживала свое присутствие именно в той палате, где я мирно уснула ночью и под утро рассчитывала мирно проснуться. Я смотрела на себя со стороны в нерушимой темноте незнамо откуда, и я же одновременно ощущала себя там, куда смотрю – была и зрителем, и участником одномоментно.
Под доступным мне углом зрения я видела бесформенное чудище, не похожее ни на какое известное существо, но вместе с тем, живое, оно двигалось, ежесекундно видоизменяясь: то вытягивалось в длину, то округлялось в шар, увеличиваясь в объеме, и где-то среди всей этой живучей массы зияла дыра, нещадно демонстрируя внутренности – кричаще уродливые, пульсирующие, живые. И где-то там, внутри, в окружении переплетенных меж собою, похожих на провода с прожилками крови кишок, зловонных и склизких, я, подсматривающая из-за угла, рассмотрела себя. И я же, будучи одновременно внутри, задыхалась в кровавых нечистотах монстра, путалась в слизи и «проводах», стремясь выбраться.
Минуя череду мыслей о спасении, мое второе зрение со стороны выхватило из мрака еще одно существо: оно наблюдало за мной, выжидало и пугало сильнее пленившего меня монстра, потому как (в том не могло быть ошибки) во сто крат превосходило голодное чудище в силе. Мне сложно его описать, он не был похож на зверя, - имея человеческое сложение, он не имел лица; имея очертание черепа, не имел головы. Он был не-человеком, объемлющим собою весь окружавший мрак, царя над мраком, с бесчеловечным равнодушием камня.
Чудовищный страх удвоил мои силы, я, что есть мочи, принялась яростнее выкарабкиваться, скребя руками в зловонном чреве монстра, хлебала гадкую жижу и жмурилась от отвращения. Глаза разъедала боль, но внезапно веки распахнулись рассвету: я узнала палату, где уснула – на месте кровать и тумбочка, и спасительный луч солнца за окном. Но ладони мои еще хранили следы мерзкой слизи, и нос отчетливо ощущал запах нечистот. Всем нутром моим вновь овладел страх, что кошмар вот-вот вернется, и монстр не отпустил меня, а лишь затаился до поры. Тогда я и рванула к вам в кабинет, забыв о времени и не заботясь о виде, с одной лишь мыслью – сбежать из того места, где тьма в любой миг способна поглотить все предметы и выплюнуть взамен смердящего монстра и леденящего душу стальным бесстрастием не-человека.
Таня говорила на едином порыве и, закончив, обнаружила, что выплеснула шквал эмоций от поразившего ее недо-сна и не-человека, поставив психотерапевта перед задачей вычленять из сумбура голые факты. Пауза…Таня чувствовала, как натянутая в напряженном молчании между двумя женщинами струна вот-вот оборвется, и что останется после – одному богу известно. И струна порвалась – шелковыми пальцами доктор коснулась Таниной ладони, проговорив участливо и в тон касанию руки шелковисто-мягко:
- Таня, ты оказалась в правильном месте и в нужное время. Я несказанно этому рада!
И будто не было никакой струны – непринужденная доверительная беседа.
- Ты впервые ночевала у нас. На новом месте часто снятся яркие реалистичные сны. Твое подсознание говорит с тобой образами, где болезнь, которую ты вознамерилась победить, предстает жутким монстром. Чудовище хочет тебя проглотить, уничтожить, и ты с ним успешно борешься. Как видишь, твой кошмар символичен и обоснован логически. Ты двигаешься в верном направлении. Обещаю: вместе мы не позволим монстру победить!
Сьюзен располагающе улыбнулась, и ее пухлое лицо засияло румянцем, отчего она напомнила Тане свежевыпеченную булочку. И тотчас приступ голода, вытесненного до поры всеохватным страхом, терпеливо выжидавшего, коварно подкрался и накатил, диктуя безудержное, всеобъемлющее желание жрать.
Именно, жрать. Такие как Таня, страдающие булимией, не едят, а жрут и думают только о том, чтобы жрать. За тем она и легла в клинику под опеку хорошей материной знакомой, доктора Сюзанны Аркадьевны. Ей, преодолев неловкость, Таня сообщила о своем желании, но та, вопреки ожиданию, ничуть не огорчилась, а, напротив, ободрила словом:
- Мы с тобой только в начале пути. Скоро все изменится. Увидишь! Я уже составила для тебя индивидуальный план питания – твой столик под номером «8», работники столовой в курсе, поднос не бери, тебе все принесут.
Но голод стремительно шел в наступление, и уже плевала Таня на неловкость, из сказанного Сьюзен, она была в состоянии осмыслить один только номер столика. «Восемь, восемь, столик «8»», - повторяла она в уме, пока голод нес ее, едва сообразившую обуть тапки, в наспех наброшенном на плечи халатике, по лестнице вниз, в столовую. Подобно выдрессированной ищейке, она шла на запах. Вопреки наставлению терапевта, схватила поднос, но чья-то твердая рука взяла ее за локоть и отвела к столику с указующей цифрой «8». Тут же другие руки с закатанными белыми рукавами поставили на стол поднос.
Не разбирая, Таня набросилась на еду, желая пробовать все и сразу: отщипнув кусок курицы, тотчас принялась за салат, фруктовый десерт, снова салат, и так беспорядочно кус за кусом, пока не опустошила всю посуду. Вкусно, но мало – места в желудке еще полно. Известно, однако, больше не дадут – за тем она и приехала. А стоило ли приезжать? И такая тоска навалилась, что не хватало сил подняться. С тупым безразличием Таня смотрела по сторонам.
- Что зенки вылупила? Без толку все, без толку, - проворчала грузная старуха в красном мохеровом берете за столиком напротив.
- Это вы мне? – обескураженная Таня сильнее вытаращила глаза.
- Кому ж еще?! Говорю – без толку! Так и всегда таращишься, а не видишь. Лучше б спать легла - и то интереснее будет!
Не успела Таня допустить до ума обращенное вроде бы к ней, но едва ли к ней относящееся, как белотканная ширма из медицинских халатов отгородила бабусю и удалила ее в мгновение ока из поля зрения и сама пропала следом за дверьми столовой.
«Хорошо ли, что я сюда попала?» - задумалась Таня в попытке оценить обстановку, возвращаясь в покинутую поутру палату. «Мне ли место бок о бок с такими персонажами? Бабуля явно не в себе, а меня всего-навсего мучает голод, и наестся не могу и жру до рвоты… Почему?»
- Это мы и должны выяснить: почему? – говорила Сьюзен на дневном приеме, когда через приоткрытую форточку звуки уличного движения привносили здоровую обыденность в атмосферу сонного островка клиники, напоминая о бурлящей за ее стенами жизни. – Что заставляет молодую благополучную мать, любимую дочь, супругу жить одними мыслями о еде? Что ты заедаешь?
Ответа не было. Знай Таня ответ – и ее самой здесь тоже бы не было. Девушка пожала плечами. Тошно… Совсем неплотный по ее меркам завтрак все равно просился наружу. Хуже то, что при том она знала, что рвотного позыва ждать еще долго, и состояние мути приходилось терпеть.
- Расскажи о своей семье!
Таня молчала, глубже вжавшись в сиденье кушетки.
- Мы с твоей мамой давние знакомые. Она – творческий человек, скульптор, - начала за нее Сьюзен.
- И папа тоже скульптор, - нехотя заговорила Таня. – Наш дом – мастерская в три этажа, каменные балясины, мрамор, глыбы – необтесанные рядом с готовыми слепками: изящной миниатюрой на стенных полках и монументальными фигурами в гостиной у входа, и колонны – везде, встречают и провожают, и в студиях тоже колонны, запах гипса и глины, а теперь еще и воска – откуда, не знаю, - наверное, новое веяние…
- Ты тоже училась на скульптора?
- Да, имея таких родителей, несложно поступить. Меня «поступили», - Таня улыбнулась нервно, спазматически. – Отучилась, но ни одной работы из моих рук так и не вышло. Бездарность я, увы.
- А ты пыталась?
- Задумки были, но воображение мое не выходило за рамки поселившихся в моем доме образов – признанных критиками творений моих талантливых предков, - чем без смысла копировать, я оставила всякую идею. Да и как такового желания творить, по правде сказать, не было. Зато в институте я познакомилась с будущим мужем. Николай тоже скульптор. Живем все вместе. Мне порой кажется, что это он родился в нашем доме-мастерской, - не я.
Вспомнив о муже, Таня вдруг ощутила тот же аромат воска, но, как не странно, не памятный, а имевший источник в самой непосредственной близости. Запах воска, всегда казавшийся приятным и даже притягательным, с каждым мгновением усиливался, насыщая воздух и уплотняя его до невозможности. Закружилась голова. Таня знала, что будет следом, и, резко сорвавшись с кушетки, со всех ног деранула в уборную, где, задыхаясь и кашляя, выплеснула на глянцевый кафель излишки утренней трапезы.
Не было ни смысла, ни сил продолжать сеанс. Удрученность, упаднический настрой, апатия и крадущий мысли голод, снова дававший знать о себе гадливым урчанием желудка, унылыми спутниками провожали Таню в палату, водрузили ее на койку и отправили странствовать по очередному сну. Где не было места голоду…
Откуда взяться ему, когда все заполняло непрекращавшееся движение и неуемный страх. Внутри утробы монстра, средь склизких проводов все бурлило, слипалось, заглатывало, смердящая жидкость, уплотняясь, застила глаза, но Таня, пребывая внутри, словно барахтаясь в раскрученном на полную барабане стиральной машины, понимала, что находится одновременно и снаружи, чуяла липкой своею кожей, пальцами, растопыренными навстречу невидимому, неосязаемому спасительному свету. Его, не-человека, бесстрастного, безликого наблюдателя чуяла она вовне, как чуяла исходящую от него силу, темную и несокрушимую.
Теперь она уверилась, что это сон, потому что так говорила Сьюзен и потому что не могло быть иначе, и та уверенность вырвала ее в день, но пробуждение вместо успокоения принесло взятый из неведомого, но недалекого источника навязчивый запах воска. Одинокая тоска и страх тотчас выгнали Таню из палаты в темный коридор с мерцающей лампой посередине, и в ледяном ее безумном свете девушка лицом к лицу столкнулась с давешней ворчливой старухой.
Она узнала ее по берету: красные тени порхали по шерстяной ткани, причудливо меняя черты старухи от кривящихся в злобе болезненно острых до искренне доброжелательной простоты.
- Гуляем? – спросила старуха. Она стояла как одна из тех скульптур, громадная и непробиваемая, перед хиленькой Таней загораживала проход и толстыми пальцами вертела спичечный коробок.
По коридору проходила работница в белом халате, - бабуле пришлось посторониться. Таня обратила внимание, что с появлением работницы бабусин короб скрылся в кармане вязаной кофты.
- Они считают нас чокнутыми, - кивая вслед удалявшейся работнице, прошептала старуха. – Они слепы – и все дела. Слепы… Но их много, а нас мало. И ты чувствуешь, что все не так, как тебе показывают.
Таня не знала, как отделаться от докучливой бабули – та снова перегородила проход, спичечный коробок опять замелькал в руке. Ненасытный желудок Тани уже требовал свое, голод подгонял, раня все нарастающими спазмами. Таня, спиной опершись о стену, толкнула старуху со словами: «Дайте же пройти! Я тороплюсь!» Старуха едко матернулась, крикнув вдогонку:
- И насытиться никак не можешь, потому как нутро за жизнь бьется, пока сама живой мумией ходишь!
Таня замедлилась, озадаченная неожиданной осведомленностью старухи о ее постыдном недуге, но голод сильнее колол щупальцами, и она скоро метнулась вниз по лестнице, поручив надоедливую старуху одиночеству коридорных стен в тусклом мерцании холодного доживающего света.
Таня устроилась в тихом уголке столовой и, ублажив, наконец, желудок, имела время поразмыслить и в результате нашла логическое объяснение информированности бабуси: глядя, с каким остервенелым рвением Таня поглощает пищу, не трудно догадаться о причине ее появления здесь, старуха просто наблюдательна. «А они слепы, - пришло на ум Тане. – Кто слеп? А кто и что видит? А главное, почему так терзают память эти слова выжившей из ума старухи?»
- Антонина… Никогда не снимает с головы берет… Конечно, знаю. Своеобразна, нестабильна. Некорректно с моей стороны обсуждать других пациентов, но поскольку ее внимание тебя беспокоит, скажу. Антонина, баба Тоня, как зовет ее внучка (она и доверила нашей клинике опеку над ней), не снимает берет из-за уродливого следа от ожога на голове, причем, как уверяет внучка, обожглась бабушка намеренно, опалив макушку пламенем самодельной свечи. У нее прогрессирующий «Альцгеймер» вкупе с вариативными навязчивыми состояниями. Не стоит принимать ее слова близко к сердцу. Здесь вообще ничего не стоит принимать на свой счет. Есть только наши сеансы и медикаментозная терапия, которую я собираюсь назначить, и больше ничего.
- И сон, - напомнила Таня, выслушав ответ Сьюзен на заданный между делом вопрос о «своеобразной и нестабильной» бабуле.
- Целям стабилизации твоего состояния в периоды сна и бодрствования и послужит курс антидепрессантов, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Сьюзен придвинула ближе запечатанную упаковку с надписью «Флуоксетин». Подумав немного, достала из прозрачного шкафчика с лекарствами блистер с ячейками, заполненными маленькими круглыми таблетками, положила его рядом с «Флуоксетином». «Атаракс» - анксиолитик, принимать перед сном.
- Транквилизатор? – испуганно спросила Таня. – Я не хочу становиться сонным овощем. Я хочу перестать видеть кошмар, а не пребывать в нем и днем, и ночью!
- Лекарство нормализует сон. Твой кошмар вызван дневными переживаниями и перестройкой организма. Мы боремся, организм борется. Оттого сон поверхностен – именно такие поверхностные неглубокие сны рождают видения, в том числе, и ужасные. Лекарство позволит тебе заснуть глубоко, без сновидений.
Убедиться, что Сьюзен права, и без транквилизатора не обойтись, вынудил случай. Словно преследователь, хищник, настырный и неумолимый, баба Тоня подстерегла Таню у выхода из кабинета Сьюзен.
- Брось! – бабуся ударила Таню по рукам. Та чуть не выронила упаковки с таблетками. – Что тебе всучили? Что?
Таня, демонстративно игнорируя нападки умалишенной, продолжила путь.
- Не поможет! Муть это все! Не унималась Антонина, чем-то тыча уходящей Тане в спину.
Дотерпев экзекуцию до лестничного пролета, Таня не выдержала.
- Что вам от меня нужно?! – воскликнула она, обернувшись.
- На, попробуй! – старуха протянула Тане спичечный коробок, что все время мелькал у нее меж пальцев. Хочешь увидеть – возьми! И папироску не забудь!
Старуха приподняла берет и выдернула из-за уха папиросину, по виду, «Беломорканал». Пока опешившая Таня соображала, что к чему, беломорина оказалась у нее в руке, но с коробком не вышло: Тане представилось, как бабуся подносит полыхающую огнем свечу к макушке, а после надевает берет, прикуривая торчащий в зубах косячок от той же свечи, и тогда, оттолкнув короб, девушка решительно двинулась дальше, минуя лестницу, коридор, влетела в палату, заперев за собой дверь.
От раздражения руки ходили ходуном, об отказе от медикаментозной терапии вопрос уже не стоял. Перед сном не сомневающаяся Таня вскрыла блистер и приняла таблетку в надежде на утреннее пробуждение без потрясений.
И чудесные таблетки сделали свое дело: первая спокойная ночь за все время пребывания в клинике – ни монстра с кишками из проводов, ни равнодушного наблюдателя не-человека, - ничего не запечатлелось в памяти от прошедшей ночи, - лишь покой и умиротворение.
«Но что за возня происходит в коридоре?» После продолжительного сна ноги, точно ватные, доковыляли до двери, через приоткрытую щелочку доносились гремящие металлические звуки, перешептывание персонала и шорох одежд. Таня распахнула дверь шире и тотчас пожалела о сделанном.
Прямо перед ней на больничной каталке, отставленной к противоположной стене, возникла обугленная головешка черепа, покрытого тонкой воспаленной пленкой незаживающей ткани с реденькими, местами пробивающимися седыми волосиками.
- Умерла Антонина, ушла сразу, была и нет. Сердечный приступ. – Вот о чем шептали работники, и услышанное не оставляло двусмысленностей. А вы, девушка, не волнуйтесь! Ступайте лучше к себе! Не стойте тут, не мешайте!
У колес каталки валялся красный берет, а рядом – коробок спичек, что Таня наотрез отказалась принять в дар накануне. Повинуясь импульсу, Таня подняла берет, положив его на каталку, подняла заодно и коробок. Видно, жалость проснулась к бабусе, либо сработала запечатленная со школьных времен установка, что «сдавать» нехорошо, - что бы в тот момент Таней не руководило, поднятый коробок она спрятала в кулак, а позже, когда каталка отъехала, убрала короб в сумку вместе с полученной накануне беломориной.
Непредвиденный уход бабы Тони, как ни странно, совпал по времени с кардинальными подвижками в Таниной терапии.
- Ты счастлива в браке? – спрашивала Сьюзен в ходе очередного сеанса.
- Разумеется, - отвечала Таня. – Николай, супруг, талантливый скульптор, он востребован, хорошо зарабатывает, прекрасный муж и отец. И дети прекрасные, двое. Скучаю по ним.
Покойно было вспоминать о семье, когда желудок не докучал голодными спазмами, а монстры и не-люди не тревожили больше сны, и навязчивый запах воска наяву не тревожил более. Пускай Сьюзен и не удалось выяснить, что именно «заедала» Таня, успех медикаментозной терапии был налицо – лекарства купировали приступы бесконтрольного переедания и вскоре Таню выписали.
Она вернулась в дом из скульптур, где дожидались родные, предупредительные и сочувствующие. Ей все еще полагалось принимать лекарства, она привыкла к ежедневным приемам и не возражала. Таня поймала себя на мысли, что, наконец, ее настроение созвучно настроению близких и самого дома и даже каждой из выставленных напоказ, будто в галерее, произведений, - все, что ее окружало неизменно откликалось ее чувствам, создавая гармонию и целостность семьи, дома, и она сама органично и стройно бесшумным ручейком вливалась в эту тихую гавань безмятежности и покоя.
Дни сменялись днями, а ночи, лишенные грез, пролетали незаметно. Но пришла ночь, вывернувшая застарелый идиллический уклад наизнанку. Таня открыла глаза и увидала одну лишь темень. Давно не просыпалась она во тьме, начисто позабыв о ее существовании, а вспомнив, содрогнулась. С дрожью наведалась мысль о том, что, ложась спать, она забыла принять таблетку. Боясь разбудить мужа, бесшумно встала с кровати и на цыпочках подкралась к шкафу в поисках блистера с «Атараксом». Наощупь лекарства не обнаружила. Вместо блистера с полки аккурат на ладонь выпал спичечный коробок, а поверх него, подобно невесомому перышку, легла беломорина.
Так обрывалось созвучие, вся сонастройка Таниной микровселенной летела к чертям. В ту ночь она не сомкнула глаз. Взволнованный разум выдавал вздорные картины – одну за другой. Прозрачный шкаф с лекарствами, в котором странным образом исчез транквилизатор, показался ей схожим один в один с тем, что стоял в кабинете Сьюзен, а спальня… Та до мелочей повторяла интерьер палаты, где Тане впервые привиделся кошмар.
Когда утренний свет потревожил спящие тени, она уже прочно утвердилась во мнении, что лечение в клинике ей померещилось, и она вообще никогда не покидала стен дома-мастерской. Спичечный короб и беломорина – единственные доказательства были, лежали на коленях. И Тане вздумалось знать, Тане вздумалось видеть. Что там говорила старуха? Хочешь увидеть – возьми!
И Таня взяла…коробок… Открыла – измельченные шишечки пахли лесом, сухой травой, хвоей. Расположившись у трюмо, из беломорины и дареной травки как смогла забила косяк. Чиркнув спичкой, закурила. Муж по-прежнему беспробудно спал, она отчего-то знала: он не важен, как не важен дом с его нерушимыми скульптурами, мебелью и всеми обитателями. Начиненная травкой беломорина, дым, наполнивший спальню – лишь это имело значение. Таня курила…
Едкий дым жег горло и ноздри, на глазах выступили слезы. И сквозь слезную пелену она смотрела вокруг: на ту же комнату, но одновременно другую, как будто через очертания привычных предметов вдруг начали проступать предметы иные, а те, что были раскрывали свою подлинную суть. И запах воска – преследователь, о котором она успела позабыть, вдруг возвратился, став еще силнее, еще несноснее.
Таня медленно пробралась к постели: кровать заметно сузилась, а бортики, напротив, приобрели в толщине. Она, как и раньше, могла видеть спящего мужа, только руки его теперь были скрещены на груди, а тело – недвижимо и бездыханно, застывшая восковая маска подменяла лицо. Лицо не принадлежало жизни, лицо принадлежало кукле – огромному восковому чучелу.
Ни удивления, ни ужаса Таня не испытала – беломорина продолжала дымить, и дым расслаблял чувство, привнося уверенность в том, что так и должно быть. И нисколечко не удивилась Таня, когда обнаружила, что кровать – и не кровать вовсе, а гроб, и так тому и должно быть.
Она покидала спальню, наперед зная, что найдет в остальных комнатах: восковые скульптуры в облачении деревянных гробов, подпирали колонны дома – мастерской, и в тех гробах покоились ее близкие: мать, отец, дети, и так тому и должно быть. Беломорина догорала, проявляя из памяти то, что все они умерли когда-то давным-давно, о Сьюзен и бабе Тоне – миражах, случайных попутчиках, якорях ее прежней жизни, из которой осталась одна беломорина, да кораблик шмали. Скорбь вместе с бесконечной жалостью к ним, к себе превратила дом в Элизиум, склеп. Но что она, живая, делает в нем? Скорбь заточила ее саму здесь, сделав при жизни восковой куклой.
Таня пересекла гостиную и остановилась у высокой гардины, под стать величественным скульптурам по обе стороны окна. Она не могла припомнить, чтобы хоть раз отворяла эту непроницаемую иссиня-черную штору. Порывистым движением она потянула плотную ткань, и занавес пал.
Таня отшатнулась, выронив папиросу. Пепел от беломорины серой пылью рассыпался на полу. Не рассвет увидала за окнами Таня, а гладкие змеиные кольца переплетенных между собой проводов, склизких с кровяными прожилками. И с предельной ясностью сложилась картина. Не сон, видение, а сама жизнь являла ненасытного монстра, она, похоронившая себя со своими мертвыми в склепе, Элизиуме восковых фигур, все это время жила внутри монстра, проглоченная им, питала его соком своей жизненной силы, текущим к нему по венам окровавленных проводов, в то время, как сама неуклонно обращалась в воск. Только теперь она увидела, что руки ее – есть воск, и тело, и одежды – тоже.
Таня посмотрела сквозь просвет в оплетших склеп проводах и узнала то, что хотела знать: за склепом – лес, а во тьме лесной бесстрастно и безропотно, без счета лет ждет ее не-человек. Она не знает, кто он, и что сулит их встреча, но кем бы ни был он, с ним куда лучше, чем здесь.
Таня отломила от скульптуры кусочек воска – не убудет, из хлопкового шнура смастерила фитиль. Самодельная свеча дала хороший огонь, пламя жгло руки, растапливая на ладонях воск. Горела кожа, горели ткани кукольных одежд, освобождая Таню. Занялась и гардина, огонь стремительно подбирался к проводам. Таня знала, что выберется – ведь она не раз выкарабкивалась из утробы монстра в видении, мнившемся кошмаром. Таня выберется, Таня знает: за склепом – лес, и ее ждут… А выберетесь ли вы?
- Сюзанна Аркадьевна, - в который раз пыталась начать Таня. Сделав глоток, она перебирала в уме нескладную конструкцию из образов и ощущений случившегося. Именно случившегося, - в том, что кошмар не происходил из сна или продуцировался видением, а случился и состоял его чудовищный необъяснимый парадокс. Она была уверена в этом, как и в том, что все сказанное ею и все, что еще предстоит рассказать, будет искажением, смысловым вывертом, потому как истинно виденное ею и с нею произошедшее невозможно описать никакими словами.
- Сьюзен, - поправила Таню терапевт, бархатным голосом приглашая, участливым взглядом из-под круглых очков в тонкой как ниточка оправе взывая к доверию.
- Сьюзен, - Таня поставила стакан на место, нечаянно дрогнув рукой, и несколько прозрачных капель скользнули на стеклянный столик. – Мне привиделся жуткий кошмар. Звучит нелепо, но я не могу отделаться от мысли, что это было наяву.
Доктор ободряюще кивнула, всем видом выражая серьезность, внимая каждому слову, и Таня продолжила, не отрывая взгляда от замерших капель:
- Я все еще находилась в палате, только помещение будто бы опустело: ни мебели, ни окон, ни стен. Тем не менее, иной недоступной пониманию частью разума я переживала свое присутствие именно в той палате, где я мирно уснула ночью и под утро рассчитывала мирно проснуться. Я смотрела на себя со стороны в нерушимой темноте незнамо откуда, и я же одновременно ощущала себя там, куда смотрю – была и зрителем, и участником одномоментно.
Под доступным мне углом зрения я видела бесформенное чудище, не похожее ни на какое известное существо, но вместе с тем, живое, оно двигалось, ежесекундно видоизменяясь: то вытягивалось в длину, то округлялось в шар, увеличиваясь в объеме, и где-то среди всей этой живучей массы зияла дыра, нещадно демонстрируя внутренности – кричаще уродливые, пульсирующие, живые. И где-то там, внутри, в окружении переплетенных меж собою, похожих на провода с прожилками крови кишок, зловонных и склизких, я, подсматривающая из-за угла, рассмотрела себя. И я же, будучи одновременно внутри, задыхалась в кровавых нечистотах монстра, путалась в слизи и «проводах», стремясь выбраться.
Минуя череду мыслей о спасении, мое второе зрение со стороны выхватило из мрака еще одно существо: оно наблюдало за мной, выжидало и пугало сильнее пленившего меня монстра, потому как (в том не могло быть ошибки) во сто крат превосходило голодное чудище в силе. Мне сложно его описать, он не был похож на зверя, - имея человеческое сложение, он не имел лица; имея очертание черепа, не имел головы. Он был не-человеком, объемлющим собою весь окружавший мрак, царя над мраком, с бесчеловечным равнодушием камня.
Чудовищный страх удвоил мои силы, я, что есть мочи, принялась яростнее выкарабкиваться, скребя руками в зловонном чреве монстра, хлебала гадкую жижу и жмурилась от отвращения. Глаза разъедала боль, но внезапно веки распахнулись рассвету: я узнала палату, где уснула – на месте кровать и тумбочка, и спасительный луч солнца за окном. Но ладони мои еще хранили следы мерзкой слизи, и нос отчетливо ощущал запах нечистот. Всем нутром моим вновь овладел страх, что кошмар вот-вот вернется, и монстр не отпустил меня, а лишь затаился до поры. Тогда я и рванула к вам в кабинет, забыв о времени и не заботясь о виде, с одной лишь мыслью – сбежать из того места, где тьма в любой миг способна поглотить все предметы и выплюнуть взамен смердящего монстра и леденящего душу стальным бесстрастием не-человека.
Таня говорила на едином порыве и, закончив, обнаружила, что выплеснула шквал эмоций от поразившего ее недо-сна и не-человека, поставив психотерапевта перед задачей вычленять из сумбура голые факты. Пауза…Таня чувствовала, как натянутая в напряженном молчании между двумя женщинами струна вот-вот оборвется, и что останется после – одному богу известно. И струна порвалась – шелковыми пальцами доктор коснулась Таниной ладони, проговорив участливо и в тон касанию руки шелковисто-мягко:
- Таня, ты оказалась в правильном месте и в нужное время. Я несказанно этому рада!
И будто не было никакой струны – непринужденная доверительная беседа.
- Ты впервые ночевала у нас. На новом месте часто снятся яркие реалистичные сны. Твое подсознание говорит с тобой образами, где болезнь, которую ты вознамерилась победить, предстает жутким монстром. Чудовище хочет тебя проглотить, уничтожить, и ты с ним успешно борешься. Как видишь, твой кошмар символичен и обоснован логически. Ты двигаешься в верном направлении. Обещаю: вместе мы не позволим монстру победить!
Сьюзен располагающе улыбнулась, и ее пухлое лицо засияло румянцем, отчего она напомнила Тане свежевыпеченную булочку. И тотчас приступ голода, вытесненного до поры всеохватным страхом, терпеливо выжидавшего, коварно подкрался и накатил, диктуя безудержное, всеобъемлющее желание жрать.
Именно, жрать. Такие как Таня, страдающие булимией, не едят, а жрут и думают только о том, чтобы жрать. За тем она и легла в клинику под опеку хорошей материной знакомой, доктора Сюзанны Аркадьевны. Ей, преодолев неловкость, Таня сообщила о своем желании, но та, вопреки ожиданию, ничуть не огорчилась, а, напротив, ободрила словом:
- Мы с тобой только в начале пути. Скоро все изменится. Увидишь! Я уже составила для тебя индивидуальный план питания – твой столик под номером «8», работники столовой в курсе, поднос не бери, тебе все принесут.
Но голод стремительно шел в наступление, и уже плевала Таня на неловкость, из сказанного Сьюзен, она была в состоянии осмыслить один только номер столика. «Восемь, восемь, столик «8»», - повторяла она в уме, пока голод нес ее, едва сообразившую обуть тапки, в наспех наброшенном на плечи халатике, по лестнице вниз, в столовую. Подобно выдрессированной ищейке, она шла на запах. Вопреки наставлению терапевта, схватила поднос, но чья-то твердая рука взяла ее за локоть и отвела к столику с указующей цифрой «8». Тут же другие руки с закатанными белыми рукавами поставили на стол поднос.
Не разбирая, Таня набросилась на еду, желая пробовать все и сразу: отщипнув кусок курицы, тотчас принялась за салат, фруктовый десерт, снова салат, и так беспорядочно кус за кусом, пока не опустошила всю посуду. Вкусно, но мало – места в желудке еще полно. Известно, однако, больше не дадут – за тем она и приехала. А стоило ли приезжать? И такая тоска навалилась, что не хватало сил подняться. С тупым безразличием Таня смотрела по сторонам.
- Что зенки вылупила? Без толку все, без толку, - проворчала грузная старуха в красном мохеровом берете за столиком напротив.
- Это вы мне? – обескураженная Таня сильнее вытаращила глаза.
- Кому ж еще?! Говорю – без толку! Так и всегда таращишься, а не видишь. Лучше б спать легла - и то интереснее будет!
Не успела Таня допустить до ума обращенное вроде бы к ней, но едва ли к ней относящееся, как белотканная ширма из медицинских халатов отгородила бабусю и удалила ее в мгновение ока из поля зрения и сама пропала следом за дверьми столовой.
«Хорошо ли, что я сюда попала?» - задумалась Таня в попытке оценить обстановку, возвращаясь в покинутую поутру палату. «Мне ли место бок о бок с такими персонажами? Бабуля явно не в себе, а меня всего-навсего мучает голод, и наестся не могу и жру до рвоты… Почему?»
- Это мы и должны выяснить: почему? – говорила Сьюзен на дневном приеме, когда через приоткрытую форточку звуки уличного движения привносили здоровую обыденность в атмосферу сонного островка клиники, напоминая о бурлящей за ее стенами жизни. – Что заставляет молодую благополучную мать, любимую дочь, супругу жить одними мыслями о еде? Что ты заедаешь?
Ответа не было. Знай Таня ответ – и ее самой здесь тоже бы не было. Девушка пожала плечами. Тошно… Совсем неплотный по ее меркам завтрак все равно просился наружу. Хуже то, что при том она знала, что рвотного позыва ждать еще долго, и состояние мути приходилось терпеть.
- Расскажи о своей семье!
Таня молчала, глубже вжавшись в сиденье кушетки.
- Мы с твоей мамой давние знакомые. Она – творческий человек, скульптор, - начала за нее Сьюзен.
- И папа тоже скульптор, - нехотя заговорила Таня. – Наш дом – мастерская в три этажа, каменные балясины, мрамор, глыбы – необтесанные рядом с готовыми слепками: изящной миниатюрой на стенных полках и монументальными фигурами в гостиной у входа, и колонны – везде, встречают и провожают, и в студиях тоже колонны, запах гипса и глины, а теперь еще и воска – откуда, не знаю, - наверное, новое веяние…
- Ты тоже училась на скульптора?
- Да, имея таких родителей, несложно поступить. Меня «поступили», - Таня улыбнулась нервно, спазматически. – Отучилась, но ни одной работы из моих рук так и не вышло. Бездарность я, увы.
- А ты пыталась?
- Задумки были, но воображение мое не выходило за рамки поселившихся в моем доме образов – признанных критиками творений моих талантливых предков, - чем без смысла копировать, я оставила всякую идею. Да и как такового желания творить, по правде сказать, не было. Зато в институте я познакомилась с будущим мужем. Николай тоже скульптор. Живем все вместе. Мне порой кажется, что это он родился в нашем доме-мастерской, - не я.
Вспомнив о муже, Таня вдруг ощутила тот же аромат воска, но, как не странно, не памятный, а имевший источник в самой непосредственной близости. Запах воска, всегда казавшийся приятным и даже притягательным, с каждым мгновением усиливался, насыщая воздух и уплотняя его до невозможности. Закружилась голова. Таня знала, что будет следом, и, резко сорвавшись с кушетки, со всех ног деранула в уборную, где, задыхаясь и кашляя, выплеснула на глянцевый кафель излишки утренней трапезы.
Не было ни смысла, ни сил продолжать сеанс. Удрученность, упаднический настрой, апатия и крадущий мысли голод, снова дававший знать о себе гадливым урчанием желудка, унылыми спутниками провожали Таню в палату, водрузили ее на койку и отправили странствовать по очередному сну. Где не было места голоду…
Откуда взяться ему, когда все заполняло непрекращавшееся движение и неуемный страх. Внутри утробы монстра, средь склизких проводов все бурлило, слипалось, заглатывало, смердящая жидкость, уплотняясь, застила глаза, но Таня, пребывая внутри, словно барахтаясь в раскрученном на полную барабане стиральной машины, понимала, что находится одновременно и снаружи, чуяла липкой своею кожей, пальцами, растопыренными навстречу невидимому, неосязаемому спасительному свету. Его, не-человека, бесстрастного, безликого наблюдателя чуяла она вовне, как чуяла исходящую от него силу, темную и несокрушимую.
Теперь она уверилась, что это сон, потому что так говорила Сьюзен и потому что не могло быть иначе, и та уверенность вырвала ее в день, но пробуждение вместо успокоения принесло взятый из неведомого, но недалекого источника навязчивый запах воска. Одинокая тоска и страх тотчас выгнали Таню из палаты в темный коридор с мерцающей лампой посередине, и в ледяном ее безумном свете девушка лицом к лицу столкнулась с давешней ворчливой старухой.
Она узнала ее по берету: красные тени порхали по шерстяной ткани, причудливо меняя черты старухи от кривящихся в злобе болезненно острых до искренне доброжелательной простоты.
- Гуляем? – спросила старуха. Она стояла как одна из тех скульптур, громадная и непробиваемая, перед хиленькой Таней загораживала проход и толстыми пальцами вертела спичечный коробок.
По коридору проходила работница в белом халате, - бабуле пришлось посторониться. Таня обратила внимание, что с появлением работницы бабусин короб скрылся в кармане вязаной кофты.
- Они считают нас чокнутыми, - кивая вслед удалявшейся работнице, прошептала старуха. – Они слепы – и все дела. Слепы… Но их много, а нас мало. И ты чувствуешь, что все не так, как тебе показывают.
Таня не знала, как отделаться от докучливой бабули – та снова перегородила проход, спичечный коробок опять замелькал в руке. Ненасытный желудок Тани уже требовал свое, голод подгонял, раня все нарастающими спазмами. Таня, спиной опершись о стену, толкнула старуху со словами: «Дайте же пройти! Я тороплюсь!» Старуха едко матернулась, крикнув вдогонку:
- И насытиться никак не можешь, потому как нутро за жизнь бьется, пока сама живой мумией ходишь!
Таня замедлилась, озадаченная неожиданной осведомленностью старухи о ее постыдном недуге, но голод сильнее колол щупальцами, и она скоро метнулась вниз по лестнице, поручив надоедливую старуху одиночеству коридорных стен в тусклом мерцании холодного доживающего света.
Таня устроилась в тихом уголке столовой и, ублажив, наконец, желудок, имела время поразмыслить и в результате нашла логическое объяснение информированности бабуси: глядя, с каким остервенелым рвением Таня поглощает пищу, не трудно догадаться о причине ее появления здесь, старуха просто наблюдательна. «А они слепы, - пришло на ум Тане. – Кто слеп? А кто и что видит? А главное, почему так терзают память эти слова выжившей из ума старухи?»
- Антонина… Никогда не снимает с головы берет… Конечно, знаю. Своеобразна, нестабильна. Некорректно с моей стороны обсуждать других пациентов, но поскольку ее внимание тебя беспокоит, скажу. Антонина, баба Тоня, как зовет ее внучка (она и доверила нашей клинике опеку над ней), не снимает берет из-за уродливого следа от ожога на голове, причем, как уверяет внучка, обожглась бабушка намеренно, опалив макушку пламенем самодельной свечи. У нее прогрессирующий «Альцгеймер» вкупе с вариативными навязчивыми состояниями. Не стоит принимать ее слова близко к сердцу. Здесь вообще ничего не стоит принимать на свой счет. Есть только наши сеансы и медикаментозная терапия, которую я собираюсь назначить, и больше ничего.
- И сон, - напомнила Таня, выслушав ответ Сьюзен на заданный между делом вопрос о «своеобразной и нестабильной» бабуле.
- Целям стабилизации твоего состояния в периоды сна и бодрствования и послужит курс антидепрессантов, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Сьюзен придвинула ближе запечатанную упаковку с надписью «Флуоксетин». Подумав немного, достала из прозрачного шкафчика с лекарствами блистер с ячейками, заполненными маленькими круглыми таблетками, положила его рядом с «Флуоксетином». «Атаракс» - анксиолитик, принимать перед сном.
- Транквилизатор? – испуганно спросила Таня. – Я не хочу становиться сонным овощем. Я хочу перестать видеть кошмар, а не пребывать в нем и днем, и ночью!
- Лекарство нормализует сон. Твой кошмар вызван дневными переживаниями и перестройкой организма. Мы боремся, организм борется. Оттого сон поверхностен – именно такие поверхностные неглубокие сны рождают видения, в том числе, и ужасные. Лекарство позволит тебе заснуть глубоко, без сновидений.
Убедиться, что Сьюзен права, и без транквилизатора не обойтись, вынудил случай. Словно преследователь, хищник, настырный и неумолимый, баба Тоня подстерегла Таню у выхода из кабинета Сьюзен.
- Брось! – бабуся ударила Таню по рукам. Та чуть не выронила упаковки с таблетками. – Что тебе всучили? Что?
Таня, демонстративно игнорируя нападки умалишенной, продолжила путь.
- Не поможет! Муть это все! Не унималась Антонина, чем-то тыча уходящей Тане в спину.
Дотерпев экзекуцию до лестничного пролета, Таня не выдержала.
- Что вам от меня нужно?! – воскликнула она, обернувшись.
- На, попробуй! – старуха протянула Тане спичечный коробок, что все время мелькал у нее меж пальцев. Хочешь увидеть – возьми! И папироску не забудь!
Старуха приподняла берет и выдернула из-за уха папиросину, по виду, «Беломорканал». Пока опешившая Таня соображала, что к чему, беломорина оказалась у нее в руке, но с коробком не вышло: Тане представилось, как бабуся подносит полыхающую огнем свечу к макушке, а после надевает берет, прикуривая торчащий в зубах косячок от той же свечи, и тогда, оттолкнув короб, девушка решительно двинулась дальше, минуя лестницу, коридор, влетела в палату, заперев за собой дверь.
От раздражения руки ходили ходуном, об отказе от медикаментозной терапии вопрос уже не стоял. Перед сном не сомневающаяся Таня вскрыла блистер и приняла таблетку в надежде на утреннее пробуждение без потрясений.
И чудесные таблетки сделали свое дело: первая спокойная ночь за все время пребывания в клинике – ни монстра с кишками из проводов, ни равнодушного наблюдателя не-человека, - ничего не запечатлелось в памяти от прошедшей ночи, - лишь покой и умиротворение.
«Но что за возня происходит в коридоре?» После продолжительного сна ноги, точно ватные, доковыляли до двери, через приоткрытую щелочку доносились гремящие металлические звуки, перешептывание персонала и шорох одежд. Таня распахнула дверь шире и тотчас пожалела о сделанном.
Прямо перед ней на больничной каталке, отставленной к противоположной стене, возникла обугленная головешка черепа, покрытого тонкой воспаленной пленкой незаживающей ткани с реденькими, местами пробивающимися седыми волосиками.
- Умерла Антонина, ушла сразу, была и нет. Сердечный приступ. – Вот о чем шептали работники, и услышанное не оставляло двусмысленностей. А вы, девушка, не волнуйтесь! Ступайте лучше к себе! Не стойте тут, не мешайте!
У колес каталки валялся красный берет, а рядом – коробок спичек, что Таня наотрез отказалась принять в дар накануне. Повинуясь импульсу, Таня подняла берет, положив его на каталку, подняла заодно и коробок. Видно, жалость проснулась к бабусе, либо сработала запечатленная со школьных времен установка, что «сдавать» нехорошо, - что бы в тот момент Таней не руководило, поднятый коробок она спрятала в кулак, а позже, когда каталка отъехала, убрала короб в сумку вместе с полученной накануне беломориной.
Непредвиденный уход бабы Тони, как ни странно, совпал по времени с кардинальными подвижками в Таниной терапии.
- Ты счастлива в браке? – спрашивала Сьюзен в ходе очередного сеанса.
- Разумеется, - отвечала Таня. – Николай, супруг, талантливый скульптор, он востребован, хорошо зарабатывает, прекрасный муж и отец. И дети прекрасные, двое. Скучаю по ним.
Покойно было вспоминать о семье, когда желудок не докучал голодными спазмами, а монстры и не-люди не тревожили больше сны, и навязчивый запах воска наяву не тревожил более. Пускай Сьюзен и не удалось выяснить, что именно «заедала» Таня, успех медикаментозной терапии был налицо – лекарства купировали приступы бесконтрольного переедания и вскоре Таню выписали.
Она вернулась в дом из скульптур, где дожидались родные, предупредительные и сочувствующие. Ей все еще полагалось принимать лекарства, она привыкла к ежедневным приемам и не возражала. Таня поймала себя на мысли, что, наконец, ее настроение созвучно настроению близких и самого дома и даже каждой из выставленных напоказ, будто в галерее, произведений, - все, что ее окружало неизменно откликалось ее чувствам, создавая гармонию и целостность семьи, дома, и она сама органично и стройно бесшумным ручейком вливалась в эту тихую гавань безмятежности и покоя.
Дни сменялись днями, а ночи, лишенные грез, пролетали незаметно. Но пришла ночь, вывернувшая застарелый идиллический уклад наизнанку. Таня открыла глаза и увидала одну лишь темень. Давно не просыпалась она во тьме, начисто позабыв о ее существовании, а вспомнив, содрогнулась. С дрожью наведалась мысль о том, что, ложась спать, она забыла принять таблетку. Боясь разбудить мужа, бесшумно встала с кровати и на цыпочках подкралась к шкафу в поисках блистера с «Атараксом». Наощупь лекарства не обнаружила. Вместо блистера с полки аккурат на ладонь выпал спичечный коробок, а поверх него, подобно невесомому перышку, легла беломорина.
Так обрывалось созвучие, вся сонастройка Таниной микровселенной летела к чертям. В ту ночь она не сомкнула глаз. Взволнованный разум выдавал вздорные картины – одну за другой. Прозрачный шкаф с лекарствами, в котором странным образом исчез транквилизатор, показался ей схожим один в один с тем, что стоял в кабинете Сьюзен, а спальня… Та до мелочей повторяла интерьер палаты, где Тане впервые привиделся кошмар.
Когда утренний свет потревожил спящие тени, она уже прочно утвердилась во мнении, что лечение в клинике ей померещилось, и она вообще никогда не покидала стен дома-мастерской. Спичечный короб и беломорина – единственные доказательства были, лежали на коленях. И Тане вздумалось знать, Тане вздумалось видеть. Что там говорила старуха? Хочешь увидеть – возьми!
И Таня взяла…коробок… Открыла – измельченные шишечки пахли лесом, сухой травой, хвоей. Расположившись у трюмо, из беломорины и дареной травки как смогла забила косяк. Чиркнув спичкой, закурила. Муж по-прежнему беспробудно спал, она отчего-то знала: он не важен, как не важен дом с его нерушимыми скульптурами, мебелью и всеми обитателями. Начиненная травкой беломорина, дым, наполнивший спальню – лишь это имело значение. Таня курила…
Едкий дым жег горло и ноздри, на глазах выступили слезы. И сквозь слезную пелену она смотрела вокруг: на ту же комнату, но одновременно другую, как будто через очертания привычных предметов вдруг начали проступать предметы иные, а те, что были раскрывали свою подлинную суть. И запах воска – преследователь, о котором она успела позабыть, вдруг возвратился, став еще силнее, еще несноснее.
Таня медленно пробралась к постели: кровать заметно сузилась, а бортики, напротив, приобрели в толщине. Она, как и раньше, могла видеть спящего мужа, только руки его теперь были скрещены на груди, а тело – недвижимо и бездыханно, застывшая восковая маска подменяла лицо. Лицо не принадлежало жизни, лицо принадлежало кукле – огромному восковому чучелу.
Ни удивления, ни ужаса Таня не испытала – беломорина продолжала дымить, и дым расслаблял чувство, привнося уверенность в том, что так и должно быть. И нисколечко не удивилась Таня, когда обнаружила, что кровать – и не кровать вовсе, а гроб, и так тому и должно быть.
Она покидала спальню, наперед зная, что найдет в остальных комнатах: восковые скульптуры в облачении деревянных гробов, подпирали колонны дома – мастерской, и в тех гробах покоились ее близкие: мать, отец, дети, и так тому и должно быть. Беломорина догорала, проявляя из памяти то, что все они умерли когда-то давным-давно, о Сьюзен и бабе Тоне – миражах, случайных попутчиках, якорях ее прежней жизни, из которой осталась одна беломорина, да кораблик шмали. Скорбь вместе с бесконечной жалостью к ним, к себе превратила дом в Элизиум, склеп. Но что она, живая, делает в нем? Скорбь заточила ее саму здесь, сделав при жизни восковой куклой.
Таня пересекла гостиную и остановилась у высокой гардины, под стать величественным скульптурам по обе стороны окна. Она не могла припомнить, чтобы хоть раз отворяла эту непроницаемую иссиня-черную штору. Порывистым движением она потянула плотную ткань, и занавес пал.
Таня отшатнулась, выронив папиросу. Пепел от беломорины серой пылью рассыпался на полу. Не рассвет увидала за окнами Таня, а гладкие змеиные кольца переплетенных между собой проводов, склизких с кровяными прожилками. И с предельной ясностью сложилась картина. Не сон, видение, а сама жизнь являла ненасытного монстра, она, похоронившая себя со своими мертвыми в склепе, Элизиуме восковых фигур, все это время жила внутри монстра, проглоченная им, питала его соком своей жизненной силы, текущим к нему по венам окровавленных проводов, в то время, как сама неуклонно обращалась в воск. Только теперь она увидела, что руки ее – есть воск, и тело, и одежды – тоже.
Таня посмотрела сквозь просвет в оплетших склеп проводах и узнала то, что хотела знать: за склепом – лес, а во тьме лесной бесстрастно и безропотно, без счета лет ждет ее не-человек. Она не знает, кто он, и что сулит их встреча, но кем бы ни был он, с ним куда лучше, чем здесь.
Таня отломила от скульптуры кусочек воска – не убудет, из хлопкового шнура смастерила фитиль. Самодельная свеча дала хороший огонь, пламя жгло руки, растапливая на ладонях воск. Горела кожа, горели ткани кукольных одежд, освобождая Таню. Занялась и гардина, огонь стремительно подбирался к проводам. Таня знала, что выберется – ведь она не раз выкарабкивалась из утробы монстра в видении, мнившемся кошмаром. Таня выберется, Таня знает: за склепом – лес, и ее ждут… А выберетесь ли вы?
Псков - конечная
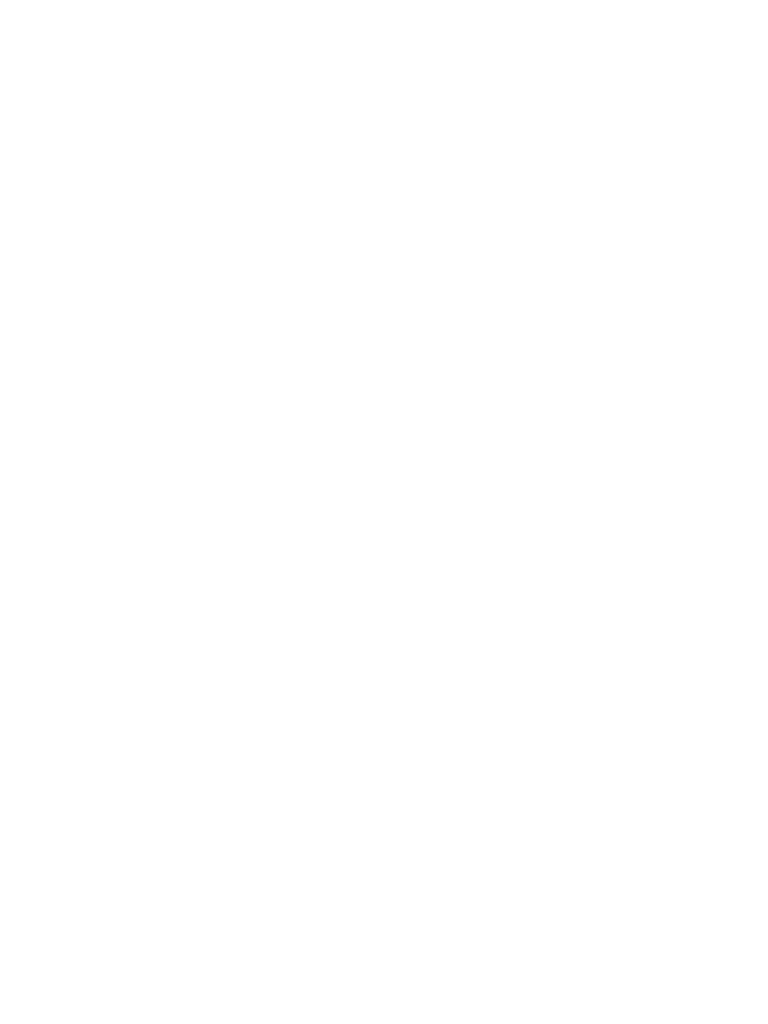
Художник Валентина Симонова
Перрон удалялся, скрывая из виду похожих на мух людей, как в замедленной съемке, в полудреме теснивших полустанок промозглым утром октября. Я откинулся на сиденье, провожая под стук колес моросивший дождь за гаснущими фонарями депо.
Сосед по купе – лысый гражданин в зеленом линялом свитере, полузакрыв глаза, сидел напротив, не проявляя ни к чему вокруг и, что утешительнее всего – ко мне в частности совершенно никакого интереса (не выношу дорожной болтовни). Другими словами, я был умиротворен и доволен. Спокойные сутки в пути, чтобы собраться с мыслями, уложить в голове стратегию по предстоящему делу – я вполне мог рассчитывать на это при необременительном соседстве.
Выложил на столик картонный скоросшиватель «Дело» - самое время освежить в памяти содержание документов, обдумать позицию. Только собирался потянуть за кончик веревки, чтобы развязать папку, как в двери купе постучали и тут же распахнули настежь, не дождавшись ответа.
Первое, что я увидел, были ноги. «Не бывает таких длинных ног», - подумал я сразу. «Не бывает таких красивых проводниц», - подумал я позже, когда последовал взглядом выше: рыжая, полногубая, но без малейшего намека на вульгарщину. И как шел ей форменный пиджак РЖД! Стопроцентное попадание в десятку, как на мой вкус. Итак, поездка мне нравилась все больше…
- Уважаемые пассажиры, предъявите, пожалуйста, билетики! – милым голосом говорила красотка. – Благодарю! Счастливого пути! – на автомате ворковала она, и, даже не взглянув на документы, поспешила перейти к следующему купе.
Мне как-то вдруг стало не до дела, и оставив на столике папку, я решил выйти следом. Куда? Вероятно, в вагон-ресторан. В дверях тотчас столкнулся с каким-то бородачом. Извинившись, он протиснулся мимо и расположился аккурат на моем месте. Я замешкался в дверях, хотел было убрать со столика папку с документами. Невольно наткнулся взглядом на черненый серебром крест на груди бородача, под его расстегнутым пальто оказалась черная ряса священнослужителя. Неловко было так откровенно прятать папку от священника, и я, устыдившись, спешно вышел, прикрыв за собой двери.
«Пришествие» нового соседа несколько подпортило настроение. Но такие досадные мелочи мгновенно вышибло из головы отрадное для моих глаз и не только явление красавицы-проводницы. Тихой поступью она проплыла близко-близко и будто дуновением свежего бриза, коснулась дыханием моего лица, прошелестев:
- Чаю?
Как тут откажешь! И что за поднос у нее в руках – позолоченный? А то и золотой? Сияет, аж глазам больно!
- Да, да, с удовольствием, - откликнулся я и вернулся в купе, усевшись напротив священника.
Лысый, тем временем, устроился с краю, у самого выхода и, облокотившись плечом о стену, о чем-то напряженно думал, по-прежнему безразличный ко всему происходящему. Чтобы завести беседу (разумеется, с проводницей, а не с лысым и уж тем более, не со священником), я брякнул первое, что пришло в голову:
- Не подскажете… уважаемая, - я сослепу не разглядел ее бейджик, - в котором часу прибываем?
- Марта, - подсказала девушка, ткнув тонким пальчиком на брошь с неразборчивой надписью, закрепленную на лацкане форменного костюма. Она закатила глаза к потолку, как будто ей стоило многих усилий припомнить, и дежурным голосом произнесла: - Псков – конечная. Прибытие завтра в тринадцать часов, время московское.
До одурения глупая улыбка застыла на моем лице, когда со значительным опозданием до меня дошел-таки смысл того, что сообщила Марта.
- Как так в тринадцать?! Поезд прибывает в десять!
Меня бросило в пот. Я принялся суетливо рыскать по карманам в поисках билета, на нервной почве запамятовав, что после проверки убрал его в кейс. Вскочил на ноги, потянулся к верхней полке, за что получил по голове сначала от пластиковой ручки, встроенной для предотвращения падения, а потом от своего же кейса, по-свойски отвесившего мне щелбан железной пряжкой. Горя нетерпением, я расстегнул застежку и тотчас на глаза попался уголок билета, на котором как-то особенно дерзко и ясно рядом с обозначением места прибытия жирным шрифтом выделялись цифры: «13:00».
Я не стеснялся в выражениях, ругая себя на чем свет стоит. Вся эта клоунада происходила на глазах моих терпеливых соседей, деликатная немота которых вдруг резко стала для меня неприятна и раздражительна.
И тут судьба, как нарочно, играя на моих натянутых нервах, подкинула новую неприятность. Нежданно-негаданно в дверях возник надутый походный рюкзак, а вслед за ним и четвертый пассажир (как будто опоздавший к представлению) – молодой крепкий мужчина. Несмотря на непогоду, он был одет в летнюю футболку, особо обращали на себя внимание по локоть татуированные руки. Сконфузившись, я постарался изобразить спокойствие, чтобы поприветствовать нового соседа, проявив элементарную вежливость. Вышло кисло-ворчливое: «Здрасьте…».
Проводница вновь появилась в дверях, - в суматохе я потерял ее из виду.
- Мне нельзя в тринадцать, - обратился я к ней. – У меня судебное заседание в Пскове назначено на одиннадцать часов. Мне надо прибыть на станцию никак не позднее десяти.
Похоже, Марта искренне мне сопереживала, когда другие смотрели как на больного. По крайней мере, лицо ее приобрело участливое выражение и сожаление, какое бывает, когда ничего уже не поделаешь. Мелькнула мысль, что с таким же наполненным мученическим состраданием лицом она могла бы стоять на моих похоронах. Поганая мысль… Ни к чему о таком думать. Надо было срочно искать выход.
- Какие станции мы проезжаем? Когда ближайшая остановка? – поинтересовался я у Марты. – Сойду и доеду до Пскова на такси. У меня и телефон нужный имеется.
- Поезд следует без остановок. Псков – конечная. Прибытие в 13:00, - тем же дежурным тоном отвечала Марта, словно зачитывала приговор. Притом, ее сострадательная гримаса нисколечко не изменилась.
- Что за поезд такой?! Нигде не останавливается, а едет так, что пешком быстрее будет! – как я ни старался сохранять самообладание, идиотизм ситуации возбуждал во мне справедливое негодование.
- Разве дело в поезде? Поезд ни при чем. Поезд совершенно обыкновенный, - ни с того ни с сего заговорил лысый. – Посмотрите, какой вы суетливый! Спешите, когда надо бы все взвесить, обдумать. Вы же собирались открыть свою папку. Вот и открывайте, читайте, думайте! Путь вам в помощь – добрый и долгий!
От такой непредвиденной и неслыханной наглости я на время потерял дар речи. Все-таки я ничего не смыслю в людях, если с первого взгляда оценил лысого попутчика как легкого и не доставляющего хлопот.
- Какой толк читать документы и размышлять над делом при даже гипотетическом отсутствии вариантов успеть на заседание! – бросил я в лицо наглецу.
- Смиритесь уже! Вы сами купили билет, сели в поезд, - подключился священник, когда не ждали. – Не убивайтесь понапрасну! Все в руках Божьих.
Я развернулся, намереваясь покинуть купе. Второпях чуть было снова не оставил папку с делом. Вовремя вспомнив, быстро схватил ее со стола и в тот миг поймал на себе любопытствующий взгляд лысого.
- Уходите? Не рановато? – спросил он.
«Что за дурацкий вопрос?» - подумал я, отвечая сквозь зубы:
- Душно. Пойду проветрюсь.
- Вы ничего не найдете там. Все ответы внутри, - проговорил лысый мне в спину.
«Что за чушь он несет? Почем знать ему, что я ищу, если я и сам о том понятия не имею? Лысый явно с придурью. Да и остальные не вызывают доверия. – Я неуверенно обходил коридор, пытаясь осмыслить положение дел. – Как я мог не обратить внимание на время прибытия поезда, когда брал билет? В самом деле, как? – недоумевал я. – Это не первая поездка в Псков. Я купил билет, какой брал обычно с тем же временем отправления. Только, по обыкновению, состав всегда прибывал в десять и следовал с остановками. Странный поезд…».
Мурашки пробежали по спине – должно быть, сквозило, когда я проходил межвагонные двери. Те закрылись за мной с задержкой – позади кто-то шел. Резко остановившись, я обернулся.
- Простите. Не хотел напугать. Вы случайно не в вагон-ресторан? – шедший позади меня опередил словом.
Я не сразу нашелся, что ответить, но видимо автоматически согласно кивнул, а позднее признал в мужчине четвертого своего попутчика с татуированными руками.
- Не возражаете, если составлю вам компанию?
Войдя в вагон-ресторан, мы расположились за столиком у окошка, за которым сильнее барабанил дождь, заглушаемый монотонным боем прыгающих по рельсам колес. Дождевые слезы размывали стекло, отчего лесной пейзаж за окном представал илистой полосой на краю глухого болота, куда и ненароком не забрести и откуда нипочем не выбраться. И с поезда не сойти: Псков – конечная…
- Меня зовут Нидо, - представился сосед, заказав нам обоим по кружке пива с сэндвичами.
- Макс, - назвался я в ответ.
«Нидо… Странное имя, странный поезд…»
- Почему ты ничего не предпринимаешь? – спросил Нидо. С первым глотком мы перешли на «ты».
- Ты же сам слышал: остановок нет, Псков – конечная. Соседи что говорят: путь долгий, я сам виноват, сам взял билет, ничего не найду, остается смириться…Как бы ты поступил на моем месте?
- Я? – Нидо лукаво прищурился. – Во-первых, я бы уж точно не слушал тех двоих, потому как оба – лгуны. И хорошенько обмозговал бы варианты покинуть поезд до конечной.
- Сорвать стоп-кран! Как мне раньше это в голову не пришло! – возликовал я, пораженный своей внезапной сообразительностью. Но тут же снова пал духом. - Не позволят.
- Кто?
- Что! Правила. Мой случай не подпадает под понятие «крайней необходимости». Штраф до пяти тысяч. А если кто с полки шарахнется и, не дай бог, конечности поломает, и до «уголовки» недалеко. Причинение вреда здоровью… - почему-то демонстрация профессиональной осведомленности вызвала во мне не что иное, как стыд.
Мой попутчик не преминул опустить искрящие лихим пиратским задором глаза, но я успел различить закравшиеся в них льдинки презрения. Нарочито скучающим взором я окинул ресторан, обратив внимание, что в вагоне прибыло. Соседний столик занял тучный кавказец. Он громко разговаривал по мобильному телефону, активно жестикулируя.
- Точно! – крикнул я, вскочив из-за стола, и едва не сбил с ног проходившего мимо официанта. – На заседание я не явлюсь, но что мешает позвонить, попросить перенести слушание? Скажу, что попал в аварию. Подтверждающие документы «слеплю» как-нибудь задним числом.
Нидо скептически скривил лицо.
- Ну, положим, слушание, назначенное на одиннадцать, состоится с тобой или без. Я, знаешь ли, тоже немного сведущ в правовых вопросах.
- Но я могу заявить ходатайство о том, чтобы дело в мое отсутствии не рассматривали по существу, и заседание отложат.
- Отложишь – проиграешь.
- Это еще почему?
- Ты забыл? Псков – конечная. Для всего вообще. Дальше нет ничего, и ты кончаешься после. Остается след, зловонный, с душком лживых оправданий и подтасовок. След потянется в новый день, где начнется новый процесс, в котором ты, другой, потеряешься за его миазмами и мутным флером.
Метафорические высказывания Нидо туго поддавались осмыслению, когда рациональный ум продолжал штурмовать все те же ворота в надежде на спасительный звонок. Я оглядел столик в поисках мобильника, затем обшарил карманы – телефона нигде не было. Неужели забыл в купе?
- Не могу найти телефон, - пожаловался я Нидо. – Разреши воспользоваться твоим!
- Увы! – с сожалением произнес тот. – Я решил не брать телефон в дорогу. Сев в поезд, я оставил мир позади. Не хочу, чтобы он звал назад.
«Странные люди… Странный поезд…» - в который раз подумал я.
- Подожди меня! Я - мигом! – сказал я Нидо и быстро выбежал из ресторана, оставив на столике папку с делом.
Я пробегал вагоны в противоход поезду, и мнилось, будто я, как хомячок, запертый в клетке, сколько б не наяривал в колесе, все одно топчусь на месте. Но вот они – двери купе, и не зря я пыхтел, загоняя сердечную мышцу, лишь напрасно дурными мыслями морочил разум. Дернул ручку, возможно, чересчур резко ворвался и непременно перепугал бы соседей, но… Купе оказалось пустым. Никого. И что самое странное, будто никого и не было: ни людей, ни вещей, места гладкие, нетронутые. Меня снова бросило в пот.
Благо, мой собственный кейс лежал себе одиноко и невредимо на верхней полке. Открыл чемоданчик – вещи на месте. Все… Кроме телефона. Я принялся искать всюду: даже матрасы перевернул – мобильника нигде не было.
Очевидно, попахивало чертовщиной. Причем, с самого начала вся эта чертова поездка, чертов поезд вместе с исчезающими пассажирами. И да: не бывает таких красивых проводниц, - некстати (а может, наоборот) вдруг вспомнил я прекрасную Марту и тут же встретился с ней лицом к лицу, стоило мне покинуть купе.
- Вы что-то ищете, Максим Андреевич?
- Телефон потерял. Не находили? Позвольте от вас позвонить! Срочно. Вопрос жизни и смерти!
Марта иронично, совсем не по случаю, улыбнулась и поманила меня пальцем. Я послушно последовал за красавицей, обрадованный тем, что похоже нашелся в этом злосчастном поезде хоть один нормальный человек, который просто позволит мне позвонить, не толкая мне в голову бессмысленный философский бред.
Мы прошли в дежурное купе. В прохладном помещении пахло розами. Я окинул взглядом столик. В хрустальной вазе густо-красные, в черноту застыли цветы. «Не встречаются такие оттенки в природе. Не бывает таких красивых проводниц», - зловредной мухой прожужжала беспокойная мысль. И Марта застыла у окна, подобно тем цветам в вазе, недвижима, бесподобно прекрасна и, чего я не замечал раньше – печальна.
- Только не говорите, что у вас нет телефона! – сказал я. Хотелось в шутку, а вышло нервно.
- Все у меня есть: и чай, и торт, и телефон, - медленно и по-особенному трагично проговорила Марта.
Проводница, казалось, одним взглядом пригвоздила меня к месту и парализовала мысли, так, что я и не заметил, как на столике рядом с цветами выстроились тарелочки, чашечки, кремовый торт и раритетный расписной самовар. Мне, немому умом и языком, только и оставалось, что молча слушать и наблюдать…
- Что я скажу тебе, Максим Андреевич…Я давно живу в Пскове и многих провожала до конечной. И всякий раз одно: каждый, кто садится в поезд, теряет возможность что-либо изменить. Звони – не звони, Псков – конечная. Тебе невдомек, но ты в действительности хотел остаться в Пскове, потому и взял билет до конечной без остановок. Но ты ошибся. Нельзя остаться в Пскове навсегда. Псков – не начало, Псков – всегда конец. Хочешь проверить? Звони!
Проводница положила на стол телефон. С виду тонкий и легкий, он ударился о стол с тяжелым стуком металла. Трясущейся, холодной от пота рукой я потянулся к нему, мимоходом глянув в окно, и взгляд мой застыл на стекле. Дневная темь за окном, небывалая даже для самой глубокой и хмурой осени, создавала в купе мрак. И розы в вазе переливающегося хрусталя казались совсем черными, и волосы Марты потемнели цветом – под стать…
Я спешно возвратился взглядом к поверхности стола, намереваясь взять телефон и в конце концов позвонить, но от увиденного черная муть застлала глаза. Я не хотел видеть то, что открывалось за размытой пеленой: на месте, где я ожидал найти телефон, лежал железный серп, отражая лунное сияние льда на острие полумесяца.
- Хочешь – звони! – повторила проводница.
Я не смел…
- Кто ты такая? – испуганно вымолвил я, еле разлепив губы.
- Кто я? Проводница, - Марта указала на левый рукав форменного пиджака со знаком РЖД. – Ты еще не понял? Этот поезд – мой.
- Так дай мне сойти! – опешив, взмолился я, почти не различая черт проводницы в сгустившейся тьме.
- Не могу. Поезд мой, но маршрут не изменить. Однако, я в силах помочь тебе сократить ожидание…
Вокруг меня плотно сжималось кольцо безысходного мрака, где слова Марты отзывались звоном клинка в унисон с неустанным чечеточным боем колес. Едва уловимый свист – Марта срезала ленту на торте, и в нос ударил аромат орехов – губительный аромат в самом, что ни есть, прямом смысле.
- Нет-нет, помилуйте, Марта! У меня аллергия! – завопил я, пока еще был способен дышать.
- Значит, не хочешь скорее, Максим Андреич? – задорно спросила проводница, закрывая на торте крышку и отворяя окно. – Взяв билет, ты выбрал маршрут. И покуда ты в поезде, от тебя ничего не зависит.
- А от кого зависит?
- От попутчиков. Ты бы понял все, если бы заглянул в свою папку. Она еще при тебе?
От хлынувшего с улицы ветра пробрал озноб. Но не от ветра заледенели ступни, а от того, что я, наконец, начинал смутно догадываться, куда несет состав меня и разномастных моих попутчиков. Спиной наощупь я кое-как доковылял до двери и быстро, насколько смог, вывалился из купе в коридор, ранящий веки ярым кислотным светом. Не сориентировавшись, перепутал направление, из-за чего пришлось вернуться и вновь пробежать мимо дежурного купе с его двуличной хозяйкой.
В конечном итоге я, взмыленный, едва дыша, все ж-таки очутился в вагоне-ресторане. Увидел Нидо за тем же столиком. Перед ним лежала моя папка-скоросшиватель. И мне вновь пришлось поймать себя на страстном желании развидеть то, что бросалось в глаза: папка была открыта, из нее небрежно торчали листы.
- Кто позволил тебе…
Нидо не дал мне договорить, перебив что ни есть циничной репликой:
- Паршивое дело. Проигрышное. Лучше сжечь!
Он положил татуированные локти на «Дело».
- Не тебе судить! Дай сюда!
Обида клокотала во мне, наводняя глаза соленой влагой. Краснея от стыда, я будто упивался своей беспомощностью, силясь выдернуть папку из-под локтей Нидо. Тот оказался дьявольски силен, и под его руками папка была точно прикованная.
В растерянности я оглядел зал, рассчитывая на помощь персонала, но, как назло, ни одного человека в униформе поблизости не нашлось. Зато, к неприятному удивлению, я обнаружил за столиком, напротив того, где давешний кавказец заканчивал свой обед, моих пропавших соседей по купе: священник и лысый молча кушали, и, как почудилось, время от времени искоса посматривая на меня.
Я должен был срочно что-то предпринять. В порыве отчаяния я подошел к кавказцу.
- Простите, ради бога! Я страшно извиняюсь! Разрешите позвонить с вашего телефона! Не могу найти свой. Очень нужно сделать срочный звонок.
Мужчина нехотя оторвался от тарелки, внимательно оглядел меня с головы до пят, точно приценивался, и вальяжно откинувшись на спинку стула, осведомился с характерным акцентом:
- Срочно, говоришь? А что взамен?
«Совести у него нет! Ненавижу торгашей! Из любой ситуации готовы извлечь выгоду», - так я думал, понимая, что обстоятельства вынуждают вести торг.
- Сколько? – спросил я, доставая кошелек.
- Обижаешь, дорогой… Разве я похож на бедняка? – произнес кавказец, поигрывая мясистыми пальцами в сиянии драгоценных перстней. – Это!
Мне привиделось, или бриллиантовый свет одного из его колец указующим лучом остановился на моей папке, все еще бывшей на столе под бдительным надзором Нидо.
- Вам нужна моя папка? Я вас правильно понял?
- Папка – цена.
Мужчина улыбнулся во все лицо, кивая головой с кудрявой шевелюрой. Я обратил внимание, что и те двое: лысый и священник, увлечены нашей беседой и не сводят глаз.
Я вернулся к своему столику. Папка-скоросшиватель «Дело» лежала свободно, а Нидо, меж тем, молча наблюдал, скрестив руки на груди. «Странный поезд… И выбора нет. Серьезно? Но что я, собственно, сейчас делаю, как не определяю выбор? Судя по перстням, кавказец не совершает невыгодных сделок. И Нидо… Он ведь не хотел отдавать папку, хоть и счел дело бесперспективным. А те, что смотрят и ловят каждое слово… Может, и им есть дело до моей папки? Из чего следует вывод: ее содержимое представляет ценность.
Я обернулся к кавказцу и решительно произнес:
- К сожалению, ваши условия для меня неприемлемы.
- Нет папки – нет телефона, - пробурчал тот ворчливо и принялся доедать, потеряв ко мне интерес.
- Что у нас не попросишь, сосед? – заговорил священнослужитель, развернувшись вместе со стулом. – Всегда просил. Проси и теперь!
- Цена, надо полагать, та же?
- Ты не понимаешь. Все папки и все дела и так принадлежат нам. Ты всего лишь возвращаешь одолженное когда-то.
- Лжет. Я предупреждал тебя, - услышал я за спиной голос Нидо.
- И я предупреждал. Твои метания не имеют смысла, - произнес лысый.
- А что имеет смысл?
- Ничто, - ответил лысый. – Только понимание этого наделяет смыслом все остальное.
- Не понимаю! – я возвысил голос в нарастающем раздражении.
- Я уже говорил: все ответы внутри, - лысый явственно показал взглядом на столик, где лежала моя папка с небрежно завязанным узелком и торчащими уголками листов.
Голова моя закипала. Ощущение было такое, будто все в этом безумном поезде, мчащем без остановок в конденсированном облачном дыму осеннего дня, сквозь проливные дожди в точку невозврата под названием «Псков», нарочно сговорились, чтобы меня запутать.
Не придумав лучше, я сел за свой столик, где лежала папка. Вернулся к недопитой кружке пива. Нидо уже допивал вторую и глядел куда-то поверх меня. Казалось, ему больше не интересны ни я, ни моя папка. Рисунки на его руках… Я имел возможность внимательнее из рассмотреть. Это были знаки, по виду напоминавшие скандинавские руны или вроде того. От кончиков пальцев по предплечьям тянулись вязи из линий, да острых углов.
Налюбовавшись, я мыслями возвратился к папке, трепетно провел ладонями по картону и потянул папку к себе, осторожно, будто священную реликвию. Нидо не препятствовал, и я решился спросить:
- Откуда в тебе столько силы, Нидо? Я сам не задохлик какой: в зале тренируюсь, нехило от груди жму. Но с тобой ни в какое сравнение! Ты картон руками как прессом придавил.
Собеседник молчал, испытующе пронзая меня взором, словно ждал, что я догадаюсь сам. Я должен был догадаться.
- Все дело в них, да? – я выразительно уперся взглядом в рунический орнамент на предплечьях Нидо.
- Хочешь такие? – спросил тот.
- Да, - не раздумывая, ответил я.
- Не выйдет, - кисло промолвил попутчик. – Они не для лжецов. А ты, Макс, вконец заврался.
- Когда ты успел уличить меня во лжи, Нидо? – я негодовал, но сильнее гнева всей душой желал услышать его объяснения.
-Я не в счет. Ты давно должен был уличить себя сам. Ты лжешь самому себе, и хуже лжи нет на свете! Тебя прельщает сила… - при этих словах Нидо показал на свои тату. – Разумеется, раз с ней возможно все! Чтобы получить чужую силу, надо преодолеть свою слабость. Это закон.
- Не знаю такого закона!
- Потому что не по тем законам живешь, - Нидо кивнул в сторону столика, за которым в безмолвии, словно параллельно существованию друг друга, продолжали трапезу священник и лысый. За разговорами я упустил момент, когда к ним присоединился предприимчивый кавказец. Все трое, присутствуя за одним столом, словно не замечали друг друга, пребывая каждый в своих думах.
- Поэтому ты и следуешь поездом, с которого не сойти, - продолжал Нидо, приложив к папке указательный палец. – Скажи правду себе, и получишь шанс сойти до конечной!
Правда… Та, что внутри… А я до сих пор не удосужился открыть и посмотреть. Или попросту поленился? Или испугался? Зато они (боковым зрением я не упускал из виду любопытную троицу, отчетливо сознавая, что в тот момент все трое наблюдают за мной) не преминут и не побоятся открыть и что хуже – присвоить. «Не в этот раз», - решил я. Рывком схватил со стола папку, прижал к себе и, не оглядываясь, выбежал из вагона-ресторана. Я слышал торопливые шаги и дыхание за спиной – быстрее дал деру. Справа – туалет. Не заперто – повезло. Прошмыгнул внутрь, звонко щелкнув замком.
По-хорошему следовало перевести дыхание. Но я не стал тратить время и, присев на стульчак, раскрыл папку. Рассекреченные бумаги разметались по полу как сухие листья в пору осеннего листопада. В них я и увидел правду, ту самую, о которой твердил Нидо. Я обмирал, глядя на каждый лист – каждый прожитый день, приближавший к смерти. То было не просто мое дело - то дело было обо мне. Фотографии как вырезки старых газет с заметками от самого рождения и до… того, как я смалодушничал, трусливо решив свести счеты с жизнью под убийственную пряно-кремовую сладость орехового торта.
Так себе, середнячок, юрист, по блату устроившийся на госслужбу, я привык угождать начальству, будучи благодарным за то, что взяли и терпят балласт вроде меня, лишенный талантов, даже великодушно доверили курировать отделение в Пскове. И начальство в лице моего непосредственного руководителя Семена Аркадьевича принимало мою многолетнюю отзывчивость как должное.
И в тот раз я не смел отказать. Я взял на себя вину своего руководителя, заявил, что не кто иной, как я разработал схему ненадлежащего расходования бюджетных средств, выделенных на очередной «долгострой» в той же Псковской области; я же устроил перевод денег на счет подставной фирмы, после чего пристроил под личные нужды. А начальство не знало, начальство не при чем. Семен Аркадьевич обещал, что не оставит, щедро позаботится о моей семье (в которой, к слову, я да мать). Заверял, что отделаюсь «условным». Но я-то знал, что нет (юрист я или кто?), наговорил я на вполне реальный срок. И зная, все равно не смог сказать «нет». Суд был назначен на одиннадцать часов следующего дня. Накануне, повинуясь порыву отчаяния, я заказал торт. Будь что будет! И вот я здесь с попутчиками, которым зачем-то сдалась моя паршивая папка.Отчего ж она так опостылела мне самому? И Псков – конечная, и с поезда не сойти.
«В самом деле?» - вдруг разозлился я, собрал листы, в сердцах дернул замок и вышел в вагон. Я знал, что искать и быстро нашел. Но, к несчастью, нашел не первым. В тамбуре собрались все мои попутчики, дружно обступив торчавший из стены стоп-кран. Только Нидо, скрестив руки на груди, стоял поодаль, облокотившись спиной о стену. Да вдалеке у дежурного купе ледяной статуей замерла проводница Марта.
- Ты знаешь, что делать… - благостно произнес священник, протягивая руку в готовности принять то, что он полагал своим.
Я крепче прижал папку к груди. Развернулся и опрометью ринулся прочь, туда, где с ледяной улыбкой встречала хозяйка поезда. Но отнюдь не объятий строгой хозяйки жаждал я. А пробовал успеть. Сойти. Как бы ни было трудно.
Я ворвался в первое интуитивно приглянувшееся мне купе – благо, в нем не было ни души: видать, не так много дуриков вроде меня берут билет до конечной. Темное окно отворялось вниз. Туго, но мне удалось открыть. Грохочущие взрывы колес схлестнулись с надрывными стонами ветра, и острые капли стрелами резали по лицу стоило мне подобраться ближе.
В страхе я оглянулся – в дверях стояли трое. Некуда бежать. Или? Двум смертям не бывать, и это верно. Орехи уже были. А чего еще не бывало…?
- Не сойти, говорите? Псков – конечная? – усмехнулся я, одарив столпившихся в дверях улыбкой лихого безумца.
И с папкой под мышкой, неуклюже, зажмурившись, минуя спальное место, перевалил через окно под раскатистый гвалт колес.
- Тише…- сказала мама. – Как ты меня напугал, Максим! Ты едва не задохнулся!
- Где я? В больнице?
Резкий запах медикаментов бил в нос.
- Где ж еще… Тебя еле откачали. Как ты мог?! Ты же знаешь – тебе нельзя орехи! Совсем! Только не говори, что ты…
- Нет – нет! – я поспешил заверить. – Я не нарочно. Просто вышло по глупости.
- Все у тебя просто и по глупости, - мама села на своего любимого конька. – Ничто сам не в состоянии проконтролировать! И суд теперь этот… Семена Аркадьевича ты тоже по глупости подвел? Или ты забыл, что всем обязан ему? Не умеешь воровать – не берись!
Услыхав про суд, я все же приподнялся на локтях.
- Когда заседание? – спросил я.
- Сегодня, в одиннадцать, - ответила мама. – Адвокат, само собой, отложение заявит ввиду твоего болезненного состояния.
Крепко, насколько позволяли силы, я сжал ладонь мамы и произнес:
- Не надо откладывать. Не нуждаюсь. Я буду участвовать.
Мама торопливо зажгла светильник, снова приложила ладонь к моему лбу.
- Не горячий, вроде… Не сметь! Я запрещаю! – по обыкновению категорично заявила мама, как водится, решив за меня.
- А это еще что? – в свете лампы я приметил у нее на коленях вязаный сверток.
Мама, как видно, пустила слезу, или я должен был так подумать, судя по движению ее изящных пальцев под нижним веком.
- Вот носочки тебе связала на случай… Ну, сам понимаешь…
- Знаешь что, мама, - начал я, глядя прямо в ее встревоженные глаза, - я явлюсь в судебное заседание ровно к одиннадцати. И тебя прошу тоже быть. Ты права: я обязан Семену Аркадьевичу всем. Да, всем своим несуществованием я обязан ему. Посредственный исполнитель, которого держат на должности из жалости. Безотказный малый, готовый сносить оплеухи от коллег и начальства за стабильный оклад и в перспективе приличную пенсию как предел мечтаний. Не удивительно, что я не учуял в торте аллерген, когда единственное истинное желание, бывшее у меня в данной среде обитания – это перестать быть.
С минуту мама осмысливала услышанное, затем громко хлюпнув в платок, спросила:
- Скажи на милость, сынок, что изменилось, пока ты пребывал в забытьи?
- Все! – вскинулся я, жестикулируя, и кровь прилила к лицу. – Стоит лишь сесть в поезд, мчащий сквозь Пограничье, и неважно как называется станция (Псков или как-то еще), следующая остановка – конечная, где некий Максим Андреевич сойдет и сгинет, а дело его паршивое в картонной папке со всем накопленным опытом, чувствами и смыслами – какими бы незначительными те не представлялись, достанется им, попутчикам, корыстным и лживым. Но я сумел спрыгнуть с поезда, и вернуться. Дабы успеть все изменить. Первым делом успеть к одиннадцати часам в судебное заседание, чтобы венуть Семену Аркадьвичу долг.
- Любопытно, каким образом ты намереваешься с ним рассчитаться? – мама отодвинулась на край кровати и с опаской глядела, будто не узнавая.
- Дам показания.
- Ты собираешься рассказать что-то новое?
- Именно. Ново - для других и для себя самого. Правду. Да…Насчет носков…Правильно сделала, что связала. Можешь отдать их Семену Аркадьевичу.
Мама призадумалась, по всей вероятности, прикидывая в уме все «за» и «против».
- И что будет дальше? После твоего признания?
- Сделаю татуировку, - ответил я, широко улыбнувшись.
Мама отпрянула от меня как от чумного.
- Врача! – закричала она во весь голос. – Кто-нибудь, позовите врача! У моего сына бред!
Наверное, для мамы помешательство – было единственным удобоваримым объяснением столь кардинальной перемены в моем поведении. Однако, прибывший на ее зов персонал, явных признаков душевного расстройства у меня не обнаружил, и поутру меня не без труда, но все же выписали, задокументировав отказ от дальнейшего лечения в стационаре.
Впервые я сам дал себе слово и сам сдержал его. Успел к назначенному на одиннадцать слушанию и, отказавшись от прежних показаний, дал новые без единого слова лжи. Семена Аркадьевича взяли под стражу прямо в зале суда. Безусловно вскоре ему изменят меру пресечения, и он не замедлит дать распоряжение выгнать меня. Но я уволюсь раньше. Нет времени прозябать, пресмыкаясь, в стабильном застое болотных вод, когда Псков – конечная, и все вопросы решаются здесь. А чтобы успеть их решить, эффективнее поступать по правде, потому как ложь отнимает слишком много времени и сил. А то и целую жизнь забирает, так ненавязчиво, незаметно. Особенно, когда лжешь самому себе – и нет лжи хуже, как утверждал Нидо.
Я вышел из здания суда, полной грудью вдохнув воздух свободы. Отчего-то вспомнил Марту, и в мыслях моих она подмигнула мне. Уверен, я обязательное встречу ее. Скажу больше: наша встреча неизбежна. Как неизбежно то, что когда-нибудь я снова окажусь в ее поезде. Но я искренне надеюсь, что к тому сроку я успею все, что должен успеть, и войду в вагон совершенно другим, без страха перед ее льдом и замершими розами, достойным ее руки.
02 октября 2024 г.
© Ядвига Симанова
Сосед по купе – лысый гражданин в зеленом линялом свитере, полузакрыв глаза, сидел напротив, не проявляя ни к чему вокруг и, что утешительнее всего – ко мне в частности совершенно никакого интереса (не выношу дорожной болтовни). Другими словами, я был умиротворен и доволен. Спокойные сутки в пути, чтобы собраться с мыслями, уложить в голове стратегию по предстоящему делу – я вполне мог рассчитывать на это при необременительном соседстве.
Выложил на столик картонный скоросшиватель «Дело» - самое время освежить в памяти содержание документов, обдумать позицию. Только собирался потянуть за кончик веревки, чтобы развязать папку, как в двери купе постучали и тут же распахнули настежь, не дождавшись ответа.
Первое, что я увидел, были ноги. «Не бывает таких длинных ног», - подумал я сразу. «Не бывает таких красивых проводниц», - подумал я позже, когда последовал взглядом выше: рыжая, полногубая, но без малейшего намека на вульгарщину. И как шел ей форменный пиджак РЖД! Стопроцентное попадание в десятку, как на мой вкус. Итак, поездка мне нравилась все больше…
- Уважаемые пассажиры, предъявите, пожалуйста, билетики! – милым голосом говорила красотка. – Благодарю! Счастливого пути! – на автомате ворковала она, и, даже не взглянув на документы, поспешила перейти к следующему купе.
Мне как-то вдруг стало не до дела, и оставив на столике папку, я решил выйти следом. Куда? Вероятно, в вагон-ресторан. В дверях тотчас столкнулся с каким-то бородачом. Извинившись, он протиснулся мимо и расположился аккурат на моем месте. Я замешкался в дверях, хотел было убрать со столика папку с документами. Невольно наткнулся взглядом на черненый серебром крест на груди бородача, под его расстегнутым пальто оказалась черная ряса священнослужителя. Неловко было так откровенно прятать папку от священника, и я, устыдившись, спешно вышел, прикрыв за собой двери.
«Пришествие» нового соседа несколько подпортило настроение. Но такие досадные мелочи мгновенно вышибло из головы отрадное для моих глаз и не только явление красавицы-проводницы. Тихой поступью она проплыла близко-близко и будто дуновением свежего бриза, коснулась дыханием моего лица, прошелестев:
- Чаю?
Как тут откажешь! И что за поднос у нее в руках – позолоченный? А то и золотой? Сияет, аж глазам больно!
- Да, да, с удовольствием, - откликнулся я и вернулся в купе, усевшись напротив священника.
Лысый, тем временем, устроился с краю, у самого выхода и, облокотившись плечом о стену, о чем-то напряженно думал, по-прежнему безразличный ко всему происходящему. Чтобы завести беседу (разумеется, с проводницей, а не с лысым и уж тем более, не со священником), я брякнул первое, что пришло в голову:
- Не подскажете… уважаемая, - я сослепу не разглядел ее бейджик, - в котором часу прибываем?
- Марта, - подсказала девушка, ткнув тонким пальчиком на брошь с неразборчивой надписью, закрепленную на лацкане форменного костюма. Она закатила глаза к потолку, как будто ей стоило многих усилий припомнить, и дежурным голосом произнесла: - Псков – конечная. Прибытие завтра в тринадцать часов, время московское.
До одурения глупая улыбка застыла на моем лице, когда со значительным опозданием до меня дошел-таки смысл того, что сообщила Марта.
- Как так в тринадцать?! Поезд прибывает в десять!
Меня бросило в пот. Я принялся суетливо рыскать по карманам в поисках билета, на нервной почве запамятовав, что после проверки убрал его в кейс. Вскочил на ноги, потянулся к верхней полке, за что получил по голове сначала от пластиковой ручки, встроенной для предотвращения падения, а потом от своего же кейса, по-свойски отвесившего мне щелбан железной пряжкой. Горя нетерпением, я расстегнул застежку и тотчас на глаза попался уголок билета, на котором как-то особенно дерзко и ясно рядом с обозначением места прибытия жирным шрифтом выделялись цифры: «13:00».
Я не стеснялся в выражениях, ругая себя на чем свет стоит. Вся эта клоунада происходила на глазах моих терпеливых соседей, деликатная немота которых вдруг резко стала для меня неприятна и раздражительна.
И тут судьба, как нарочно, играя на моих натянутых нервах, подкинула новую неприятность. Нежданно-негаданно в дверях возник надутый походный рюкзак, а вслед за ним и четвертый пассажир (как будто опоздавший к представлению) – молодой крепкий мужчина. Несмотря на непогоду, он был одет в летнюю футболку, особо обращали на себя внимание по локоть татуированные руки. Сконфузившись, я постарался изобразить спокойствие, чтобы поприветствовать нового соседа, проявив элементарную вежливость. Вышло кисло-ворчливое: «Здрасьте…».
Проводница вновь появилась в дверях, - в суматохе я потерял ее из виду.
- Мне нельзя в тринадцать, - обратился я к ней. – У меня судебное заседание в Пскове назначено на одиннадцать часов. Мне надо прибыть на станцию никак не позднее десяти.
Похоже, Марта искренне мне сопереживала, когда другие смотрели как на больного. По крайней мере, лицо ее приобрело участливое выражение и сожаление, какое бывает, когда ничего уже не поделаешь. Мелькнула мысль, что с таким же наполненным мученическим состраданием лицом она могла бы стоять на моих похоронах. Поганая мысль… Ни к чему о таком думать. Надо было срочно искать выход.
- Какие станции мы проезжаем? Когда ближайшая остановка? – поинтересовался я у Марты. – Сойду и доеду до Пскова на такси. У меня и телефон нужный имеется.
- Поезд следует без остановок. Псков – конечная. Прибытие в 13:00, - тем же дежурным тоном отвечала Марта, словно зачитывала приговор. Притом, ее сострадательная гримаса нисколечко не изменилась.
- Что за поезд такой?! Нигде не останавливается, а едет так, что пешком быстрее будет! – как я ни старался сохранять самообладание, идиотизм ситуации возбуждал во мне справедливое негодование.
- Разве дело в поезде? Поезд ни при чем. Поезд совершенно обыкновенный, - ни с того ни с сего заговорил лысый. – Посмотрите, какой вы суетливый! Спешите, когда надо бы все взвесить, обдумать. Вы же собирались открыть свою папку. Вот и открывайте, читайте, думайте! Путь вам в помощь – добрый и долгий!
От такой непредвиденной и неслыханной наглости я на время потерял дар речи. Все-таки я ничего не смыслю в людях, если с первого взгляда оценил лысого попутчика как легкого и не доставляющего хлопот.
- Какой толк читать документы и размышлять над делом при даже гипотетическом отсутствии вариантов успеть на заседание! – бросил я в лицо наглецу.
- Смиритесь уже! Вы сами купили билет, сели в поезд, - подключился священник, когда не ждали. – Не убивайтесь понапрасну! Все в руках Божьих.
Я развернулся, намереваясь покинуть купе. Второпях чуть было снова не оставил папку с делом. Вовремя вспомнив, быстро схватил ее со стола и в тот миг поймал на себе любопытствующий взгляд лысого.
- Уходите? Не рановато? – спросил он.
«Что за дурацкий вопрос?» - подумал я, отвечая сквозь зубы:
- Душно. Пойду проветрюсь.
- Вы ничего не найдете там. Все ответы внутри, - проговорил лысый мне в спину.
«Что за чушь он несет? Почем знать ему, что я ищу, если я и сам о том понятия не имею? Лысый явно с придурью. Да и остальные не вызывают доверия. – Я неуверенно обходил коридор, пытаясь осмыслить положение дел. – Как я мог не обратить внимание на время прибытия поезда, когда брал билет? В самом деле, как? – недоумевал я. – Это не первая поездка в Псков. Я купил билет, какой брал обычно с тем же временем отправления. Только, по обыкновению, состав всегда прибывал в десять и следовал с остановками. Странный поезд…».
Мурашки пробежали по спине – должно быть, сквозило, когда я проходил межвагонные двери. Те закрылись за мной с задержкой – позади кто-то шел. Резко остановившись, я обернулся.
- Простите. Не хотел напугать. Вы случайно не в вагон-ресторан? – шедший позади меня опередил словом.
Я не сразу нашелся, что ответить, но видимо автоматически согласно кивнул, а позднее признал в мужчине четвертого своего попутчика с татуированными руками.
- Не возражаете, если составлю вам компанию?
Войдя в вагон-ресторан, мы расположились за столиком у окошка, за которым сильнее барабанил дождь, заглушаемый монотонным боем прыгающих по рельсам колес. Дождевые слезы размывали стекло, отчего лесной пейзаж за окном представал илистой полосой на краю глухого болота, куда и ненароком не забрести и откуда нипочем не выбраться. И с поезда не сойти: Псков – конечная…
- Меня зовут Нидо, - представился сосед, заказав нам обоим по кружке пива с сэндвичами.
- Макс, - назвался я в ответ.
«Нидо… Странное имя, странный поезд…»
- Почему ты ничего не предпринимаешь? – спросил Нидо. С первым глотком мы перешли на «ты».
- Ты же сам слышал: остановок нет, Псков – конечная. Соседи что говорят: путь долгий, я сам виноват, сам взял билет, ничего не найду, остается смириться…Как бы ты поступил на моем месте?
- Я? – Нидо лукаво прищурился. – Во-первых, я бы уж точно не слушал тех двоих, потому как оба – лгуны. И хорошенько обмозговал бы варианты покинуть поезд до конечной.
- Сорвать стоп-кран! Как мне раньше это в голову не пришло! – возликовал я, пораженный своей внезапной сообразительностью. Но тут же снова пал духом. - Не позволят.
- Кто?
- Что! Правила. Мой случай не подпадает под понятие «крайней необходимости». Штраф до пяти тысяч. А если кто с полки шарахнется и, не дай бог, конечности поломает, и до «уголовки» недалеко. Причинение вреда здоровью… - почему-то демонстрация профессиональной осведомленности вызвала во мне не что иное, как стыд.
Мой попутчик не преминул опустить искрящие лихим пиратским задором глаза, но я успел различить закравшиеся в них льдинки презрения. Нарочито скучающим взором я окинул ресторан, обратив внимание, что в вагоне прибыло. Соседний столик занял тучный кавказец. Он громко разговаривал по мобильному телефону, активно жестикулируя.
- Точно! – крикнул я, вскочив из-за стола, и едва не сбил с ног проходившего мимо официанта. – На заседание я не явлюсь, но что мешает позвонить, попросить перенести слушание? Скажу, что попал в аварию. Подтверждающие документы «слеплю» как-нибудь задним числом.
Нидо скептически скривил лицо.
- Ну, положим, слушание, назначенное на одиннадцать, состоится с тобой или без. Я, знаешь ли, тоже немного сведущ в правовых вопросах.
- Но я могу заявить ходатайство о том, чтобы дело в мое отсутствии не рассматривали по существу, и заседание отложат.
- Отложишь – проиграешь.
- Это еще почему?
- Ты забыл? Псков – конечная. Для всего вообще. Дальше нет ничего, и ты кончаешься после. Остается след, зловонный, с душком лживых оправданий и подтасовок. След потянется в новый день, где начнется новый процесс, в котором ты, другой, потеряешься за его миазмами и мутным флером.
Метафорические высказывания Нидо туго поддавались осмыслению, когда рациональный ум продолжал штурмовать все те же ворота в надежде на спасительный звонок. Я оглядел столик в поисках мобильника, затем обшарил карманы – телефона нигде не было. Неужели забыл в купе?
- Не могу найти телефон, - пожаловался я Нидо. – Разреши воспользоваться твоим!
- Увы! – с сожалением произнес тот. – Я решил не брать телефон в дорогу. Сев в поезд, я оставил мир позади. Не хочу, чтобы он звал назад.
«Странные люди… Странный поезд…» - в который раз подумал я.
- Подожди меня! Я - мигом! – сказал я Нидо и быстро выбежал из ресторана, оставив на столике папку с делом.
Я пробегал вагоны в противоход поезду, и мнилось, будто я, как хомячок, запертый в клетке, сколько б не наяривал в колесе, все одно топчусь на месте. Но вот они – двери купе, и не зря я пыхтел, загоняя сердечную мышцу, лишь напрасно дурными мыслями морочил разум. Дернул ручку, возможно, чересчур резко ворвался и непременно перепугал бы соседей, но… Купе оказалось пустым. Никого. И что самое странное, будто никого и не было: ни людей, ни вещей, места гладкие, нетронутые. Меня снова бросило в пот.
Благо, мой собственный кейс лежал себе одиноко и невредимо на верхней полке. Открыл чемоданчик – вещи на месте. Все… Кроме телефона. Я принялся искать всюду: даже матрасы перевернул – мобильника нигде не было.
Очевидно, попахивало чертовщиной. Причем, с самого начала вся эта чертова поездка, чертов поезд вместе с исчезающими пассажирами. И да: не бывает таких красивых проводниц, - некстати (а может, наоборот) вдруг вспомнил я прекрасную Марту и тут же встретился с ней лицом к лицу, стоило мне покинуть купе.
- Вы что-то ищете, Максим Андреевич?
- Телефон потерял. Не находили? Позвольте от вас позвонить! Срочно. Вопрос жизни и смерти!
Марта иронично, совсем не по случаю, улыбнулась и поманила меня пальцем. Я послушно последовал за красавицей, обрадованный тем, что похоже нашелся в этом злосчастном поезде хоть один нормальный человек, который просто позволит мне позвонить, не толкая мне в голову бессмысленный философский бред.
Мы прошли в дежурное купе. В прохладном помещении пахло розами. Я окинул взглядом столик. В хрустальной вазе густо-красные, в черноту застыли цветы. «Не встречаются такие оттенки в природе. Не бывает таких красивых проводниц», - зловредной мухой прожужжала беспокойная мысль. И Марта застыла у окна, подобно тем цветам в вазе, недвижима, бесподобно прекрасна и, чего я не замечал раньше – печальна.
- Только не говорите, что у вас нет телефона! – сказал я. Хотелось в шутку, а вышло нервно.
- Все у меня есть: и чай, и торт, и телефон, - медленно и по-особенному трагично проговорила Марта.
Проводница, казалось, одним взглядом пригвоздила меня к месту и парализовала мысли, так, что я и не заметил, как на столике рядом с цветами выстроились тарелочки, чашечки, кремовый торт и раритетный расписной самовар. Мне, немому умом и языком, только и оставалось, что молча слушать и наблюдать…
- Что я скажу тебе, Максим Андреевич…Я давно живу в Пскове и многих провожала до конечной. И всякий раз одно: каждый, кто садится в поезд, теряет возможность что-либо изменить. Звони – не звони, Псков – конечная. Тебе невдомек, но ты в действительности хотел остаться в Пскове, потому и взял билет до конечной без остановок. Но ты ошибся. Нельзя остаться в Пскове навсегда. Псков – не начало, Псков – всегда конец. Хочешь проверить? Звони!
Проводница положила на стол телефон. С виду тонкий и легкий, он ударился о стол с тяжелым стуком металла. Трясущейся, холодной от пота рукой я потянулся к нему, мимоходом глянув в окно, и взгляд мой застыл на стекле. Дневная темь за окном, небывалая даже для самой глубокой и хмурой осени, создавала в купе мрак. И розы в вазе переливающегося хрусталя казались совсем черными, и волосы Марты потемнели цветом – под стать…
Я спешно возвратился взглядом к поверхности стола, намереваясь взять телефон и в конце концов позвонить, но от увиденного черная муть застлала глаза. Я не хотел видеть то, что открывалось за размытой пеленой: на месте, где я ожидал найти телефон, лежал железный серп, отражая лунное сияние льда на острие полумесяца.
- Хочешь – звони! – повторила проводница.
Я не смел…
- Кто ты такая? – испуганно вымолвил я, еле разлепив губы.
- Кто я? Проводница, - Марта указала на левый рукав форменного пиджака со знаком РЖД. – Ты еще не понял? Этот поезд – мой.
- Так дай мне сойти! – опешив, взмолился я, почти не различая черт проводницы в сгустившейся тьме.
- Не могу. Поезд мой, но маршрут не изменить. Однако, я в силах помочь тебе сократить ожидание…
Вокруг меня плотно сжималось кольцо безысходного мрака, где слова Марты отзывались звоном клинка в унисон с неустанным чечеточным боем колес. Едва уловимый свист – Марта срезала ленту на торте, и в нос ударил аромат орехов – губительный аромат в самом, что ни есть, прямом смысле.
- Нет-нет, помилуйте, Марта! У меня аллергия! – завопил я, пока еще был способен дышать.
- Значит, не хочешь скорее, Максим Андреич? – задорно спросила проводница, закрывая на торте крышку и отворяя окно. – Взяв билет, ты выбрал маршрут. И покуда ты в поезде, от тебя ничего не зависит.
- А от кого зависит?
- От попутчиков. Ты бы понял все, если бы заглянул в свою папку. Она еще при тебе?
От хлынувшего с улицы ветра пробрал озноб. Но не от ветра заледенели ступни, а от того, что я, наконец, начинал смутно догадываться, куда несет состав меня и разномастных моих попутчиков. Спиной наощупь я кое-как доковылял до двери и быстро, насколько смог, вывалился из купе в коридор, ранящий веки ярым кислотным светом. Не сориентировавшись, перепутал направление, из-за чего пришлось вернуться и вновь пробежать мимо дежурного купе с его двуличной хозяйкой.
В конечном итоге я, взмыленный, едва дыша, все ж-таки очутился в вагоне-ресторане. Увидел Нидо за тем же столиком. Перед ним лежала моя папка-скоросшиватель. И мне вновь пришлось поймать себя на страстном желании развидеть то, что бросалось в глаза: папка была открыта, из нее небрежно торчали листы.
- Кто позволил тебе…
Нидо не дал мне договорить, перебив что ни есть циничной репликой:
- Паршивое дело. Проигрышное. Лучше сжечь!
Он положил татуированные локти на «Дело».
- Не тебе судить! Дай сюда!
Обида клокотала во мне, наводняя глаза соленой влагой. Краснея от стыда, я будто упивался своей беспомощностью, силясь выдернуть папку из-под локтей Нидо. Тот оказался дьявольски силен, и под его руками папка была точно прикованная.
В растерянности я оглядел зал, рассчитывая на помощь персонала, но, как назло, ни одного человека в униформе поблизости не нашлось. Зато, к неприятному удивлению, я обнаружил за столиком, напротив того, где давешний кавказец заканчивал свой обед, моих пропавших соседей по купе: священник и лысый молча кушали, и, как почудилось, время от времени искоса посматривая на меня.
Я должен был срочно что-то предпринять. В порыве отчаяния я подошел к кавказцу.
- Простите, ради бога! Я страшно извиняюсь! Разрешите позвонить с вашего телефона! Не могу найти свой. Очень нужно сделать срочный звонок.
Мужчина нехотя оторвался от тарелки, внимательно оглядел меня с головы до пят, точно приценивался, и вальяжно откинувшись на спинку стула, осведомился с характерным акцентом:
- Срочно, говоришь? А что взамен?
«Совести у него нет! Ненавижу торгашей! Из любой ситуации готовы извлечь выгоду», - так я думал, понимая, что обстоятельства вынуждают вести торг.
- Сколько? – спросил я, доставая кошелек.
- Обижаешь, дорогой… Разве я похож на бедняка? – произнес кавказец, поигрывая мясистыми пальцами в сиянии драгоценных перстней. – Это!
Мне привиделось, или бриллиантовый свет одного из его колец указующим лучом остановился на моей папке, все еще бывшей на столе под бдительным надзором Нидо.
- Вам нужна моя папка? Я вас правильно понял?
- Папка – цена.
Мужчина улыбнулся во все лицо, кивая головой с кудрявой шевелюрой. Я обратил внимание, что и те двое: лысый и священник, увлечены нашей беседой и не сводят глаз.
Я вернулся к своему столику. Папка-скоросшиватель «Дело» лежала свободно, а Нидо, меж тем, молча наблюдал, скрестив руки на груди. «Странный поезд… И выбора нет. Серьезно? Но что я, собственно, сейчас делаю, как не определяю выбор? Судя по перстням, кавказец не совершает невыгодных сделок. И Нидо… Он ведь не хотел отдавать папку, хоть и счел дело бесперспективным. А те, что смотрят и ловят каждое слово… Может, и им есть дело до моей папки? Из чего следует вывод: ее содержимое представляет ценность.
Я обернулся к кавказцу и решительно произнес:
- К сожалению, ваши условия для меня неприемлемы.
- Нет папки – нет телефона, - пробурчал тот ворчливо и принялся доедать, потеряв ко мне интерес.
- Что у нас не попросишь, сосед? – заговорил священнослужитель, развернувшись вместе со стулом. – Всегда просил. Проси и теперь!
- Цена, надо полагать, та же?
- Ты не понимаешь. Все папки и все дела и так принадлежат нам. Ты всего лишь возвращаешь одолженное когда-то.
- Лжет. Я предупреждал тебя, - услышал я за спиной голос Нидо.
- И я предупреждал. Твои метания не имеют смысла, - произнес лысый.
- А что имеет смысл?
- Ничто, - ответил лысый. – Только понимание этого наделяет смыслом все остальное.
- Не понимаю! – я возвысил голос в нарастающем раздражении.
- Я уже говорил: все ответы внутри, - лысый явственно показал взглядом на столик, где лежала моя папка с небрежно завязанным узелком и торчащими уголками листов.
Голова моя закипала. Ощущение было такое, будто все в этом безумном поезде, мчащем без остановок в конденсированном облачном дыму осеннего дня, сквозь проливные дожди в точку невозврата под названием «Псков», нарочно сговорились, чтобы меня запутать.
Не придумав лучше, я сел за свой столик, где лежала папка. Вернулся к недопитой кружке пива. Нидо уже допивал вторую и глядел куда-то поверх меня. Казалось, ему больше не интересны ни я, ни моя папка. Рисунки на его руках… Я имел возможность внимательнее из рассмотреть. Это были знаки, по виду напоминавшие скандинавские руны или вроде того. От кончиков пальцев по предплечьям тянулись вязи из линий, да острых углов.
Налюбовавшись, я мыслями возвратился к папке, трепетно провел ладонями по картону и потянул папку к себе, осторожно, будто священную реликвию. Нидо не препятствовал, и я решился спросить:
- Откуда в тебе столько силы, Нидо? Я сам не задохлик какой: в зале тренируюсь, нехило от груди жму. Но с тобой ни в какое сравнение! Ты картон руками как прессом придавил.
Собеседник молчал, испытующе пронзая меня взором, словно ждал, что я догадаюсь сам. Я должен был догадаться.
- Все дело в них, да? – я выразительно уперся взглядом в рунический орнамент на предплечьях Нидо.
- Хочешь такие? – спросил тот.
- Да, - не раздумывая, ответил я.
- Не выйдет, - кисло промолвил попутчик. – Они не для лжецов. А ты, Макс, вконец заврался.
- Когда ты успел уличить меня во лжи, Нидо? – я негодовал, но сильнее гнева всей душой желал услышать его объяснения.
-Я не в счет. Ты давно должен был уличить себя сам. Ты лжешь самому себе, и хуже лжи нет на свете! Тебя прельщает сила… - при этих словах Нидо показал на свои тату. – Разумеется, раз с ней возможно все! Чтобы получить чужую силу, надо преодолеть свою слабость. Это закон.
- Не знаю такого закона!
- Потому что не по тем законам живешь, - Нидо кивнул в сторону столика, за которым в безмолвии, словно параллельно существованию друг друга, продолжали трапезу священник и лысый. За разговорами я упустил момент, когда к ним присоединился предприимчивый кавказец. Все трое, присутствуя за одним столом, словно не замечали друг друга, пребывая каждый в своих думах.
- Поэтому ты и следуешь поездом, с которого не сойти, - продолжал Нидо, приложив к папке указательный палец. – Скажи правду себе, и получишь шанс сойти до конечной!
Правда… Та, что внутри… А я до сих пор не удосужился открыть и посмотреть. Или попросту поленился? Или испугался? Зато они (боковым зрением я не упускал из виду любопытную троицу, отчетливо сознавая, что в тот момент все трое наблюдают за мной) не преминут и не побоятся открыть и что хуже – присвоить. «Не в этот раз», - решил я. Рывком схватил со стола папку, прижал к себе и, не оглядываясь, выбежал из вагона-ресторана. Я слышал торопливые шаги и дыхание за спиной – быстрее дал деру. Справа – туалет. Не заперто – повезло. Прошмыгнул внутрь, звонко щелкнув замком.
По-хорошему следовало перевести дыхание. Но я не стал тратить время и, присев на стульчак, раскрыл папку. Рассекреченные бумаги разметались по полу как сухие листья в пору осеннего листопада. В них я и увидел правду, ту самую, о которой твердил Нидо. Я обмирал, глядя на каждый лист – каждый прожитый день, приближавший к смерти. То было не просто мое дело - то дело было обо мне. Фотографии как вырезки старых газет с заметками от самого рождения и до… того, как я смалодушничал, трусливо решив свести счеты с жизнью под убийственную пряно-кремовую сладость орехового торта.
Так себе, середнячок, юрист, по блату устроившийся на госслужбу, я привык угождать начальству, будучи благодарным за то, что взяли и терпят балласт вроде меня, лишенный талантов, даже великодушно доверили курировать отделение в Пскове. И начальство в лице моего непосредственного руководителя Семена Аркадьевича принимало мою многолетнюю отзывчивость как должное.
И в тот раз я не смел отказать. Я взял на себя вину своего руководителя, заявил, что не кто иной, как я разработал схему ненадлежащего расходования бюджетных средств, выделенных на очередной «долгострой» в той же Псковской области; я же устроил перевод денег на счет подставной фирмы, после чего пристроил под личные нужды. А начальство не знало, начальство не при чем. Семен Аркадьевич обещал, что не оставит, щедро позаботится о моей семье (в которой, к слову, я да мать). Заверял, что отделаюсь «условным». Но я-то знал, что нет (юрист я или кто?), наговорил я на вполне реальный срок. И зная, все равно не смог сказать «нет». Суд был назначен на одиннадцать часов следующего дня. Накануне, повинуясь порыву отчаяния, я заказал торт. Будь что будет! И вот я здесь с попутчиками, которым зачем-то сдалась моя паршивая папка.Отчего ж она так опостылела мне самому? И Псков – конечная, и с поезда не сойти.
«В самом деле?» - вдруг разозлился я, собрал листы, в сердцах дернул замок и вышел в вагон. Я знал, что искать и быстро нашел. Но, к несчастью, нашел не первым. В тамбуре собрались все мои попутчики, дружно обступив торчавший из стены стоп-кран. Только Нидо, скрестив руки на груди, стоял поодаль, облокотившись спиной о стену. Да вдалеке у дежурного купе ледяной статуей замерла проводница Марта.
- Ты знаешь, что делать… - благостно произнес священник, протягивая руку в готовности принять то, что он полагал своим.
Я крепче прижал папку к груди. Развернулся и опрометью ринулся прочь, туда, где с ледяной улыбкой встречала хозяйка поезда. Но отнюдь не объятий строгой хозяйки жаждал я. А пробовал успеть. Сойти. Как бы ни было трудно.
Я ворвался в первое интуитивно приглянувшееся мне купе – благо, в нем не было ни души: видать, не так много дуриков вроде меня берут билет до конечной. Темное окно отворялось вниз. Туго, но мне удалось открыть. Грохочущие взрывы колес схлестнулись с надрывными стонами ветра, и острые капли стрелами резали по лицу стоило мне подобраться ближе.
В страхе я оглянулся – в дверях стояли трое. Некуда бежать. Или? Двум смертям не бывать, и это верно. Орехи уже были. А чего еще не бывало…?
- Не сойти, говорите? Псков – конечная? – усмехнулся я, одарив столпившихся в дверях улыбкой лихого безумца.
И с папкой под мышкой, неуклюже, зажмурившись, минуя спальное место, перевалил через окно под раскатистый гвалт колес.
***
Стенания скорого поезда, отметившего мой побег тревожным гудком, отдавались в голове давящей тупой болью. Я с трудом разлепил веки. Темь. Как тогда за оконным столиком, где остались цветы жженой крови в хрустале. Чья-то рука провела по лбу. Я попытался подняться на подушке.- Тише…- сказала мама. – Как ты меня напугал, Максим! Ты едва не задохнулся!
- Где я? В больнице?
Резкий запах медикаментов бил в нос.
- Где ж еще… Тебя еле откачали. Как ты мог?! Ты же знаешь – тебе нельзя орехи! Совсем! Только не говори, что ты…
- Нет – нет! – я поспешил заверить. – Я не нарочно. Просто вышло по глупости.
- Все у тебя просто и по глупости, - мама села на своего любимого конька. – Ничто сам не в состоянии проконтролировать! И суд теперь этот… Семена Аркадьевича ты тоже по глупости подвел? Или ты забыл, что всем обязан ему? Не умеешь воровать – не берись!
Услыхав про суд, я все же приподнялся на локтях.
- Когда заседание? – спросил я.
- Сегодня, в одиннадцать, - ответила мама. – Адвокат, само собой, отложение заявит ввиду твоего болезненного состояния.
Крепко, насколько позволяли силы, я сжал ладонь мамы и произнес:
- Не надо откладывать. Не нуждаюсь. Я буду участвовать.
Мама торопливо зажгла светильник, снова приложила ладонь к моему лбу.
- Не горячий, вроде… Не сметь! Я запрещаю! – по обыкновению категорично заявила мама, как водится, решив за меня.
- А это еще что? – в свете лампы я приметил у нее на коленях вязаный сверток.
Мама, как видно, пустила слезу, или я должен был так подумать, судя по движению ее изящных пальцев под нижним веком.
- Вот носочки тебе связала на случай… Ну, сам понимаешь…
- Знаешь что, мама, - начал я, глядя прямо в ее встревоженные глаза, - я явлюсь в судебное заседание ровно к одиннадцати. И тебя прошу тоже быть. Ты права: я обязан Семену Аркадьевичу всем. Да, всем своим несуществованием я обязан ему. Посредственный исполнитель, которого держат на должности из жалости. Безотказный малый, готовый сносить оплеухи от коллег и начальства за стабильный оклад и в перспективе приличную пенсию как предел мечтаний. Не удивительно, что я не учуял в торте аллерген, когда единственное истинное желание, бывшее у меня в данной среде обитания – это перестать быть.
С минуту мама осмысливала услышанное, затем громко хлюпнув в платок, спросила:
- Скажи на милость, сынок, что изменилось, пока ты пребывал в забытьи?
- Все! – вскинулся я, жестикулируя, и кровь прилила к лицу. – Стоит лишь сесть в поезд, мчащий сквозь Пограничье, и неважно как называется станция (Псков или как-то еще), следующая остановка – конечная, где некий Максим Андреевич сойдет и сгинет, а дело его паршивое в картонной папке со всем накопленным опытом, чувствами и смыслами – какими бы незначительными те не представлялись, достанется им, попутчикам, корыстным и лживым. Но я сумел спрыгнуть с поезда, и вернуться. Дабы успеть все изменить. Первым делом успеть к одиннадцати часам в судебное заседание, чтобы венуть Семену Аркадьвичу долг.
- Любопытно, каким образом ты намереваешься с ним рассчитаться? – мама отодвинулась на край кровати и с опаской глядела, будто не узнавая.
- Дам показания.
- Ты собираешься рассказать что-то новое?
- Именно. Ново - для других и для себя самого. Правду. Да…Насчет носков…Правильно сделала, что связала. Можешь отдать их Семену Аркадьевичу.
Мама призадумалась, по всей вероятности, прикидывая в уме все «за» и «против».
- И что будет дальше? После твоего признания?
- Сделаю татуировку, - ответил я, широко улыбнувшись.
Мама отпрянула от меня как от чумного.
- Врача! – закричала она во весь голос. – Кто-нибудь, позовите врача! У моего сына бред!
Наверное, для мамы помешательство – было единственным удобоваримым объяснением столь кардинальной перемены в моем поведении. Однако, прибывший на ее зов персонал, явных признаков душевного расстройства у меня не обнаружил, и поутру меня не без труда, но все же выписали, задокументировав отказ от дальнейшего лечения в стационаре.
Впервые я сам дал себе слово и сам сдержал его. Успел к назначенному на одиннадцать слушанию и, отказавшись от прежних показаний, дал новые без единого слова лжи. Семена Аркадьевича взяли под стражу прямо в зале суда. Безусловно вскоре ему изменят меру пресечения, и он не замедлит дать распоряжение выгнать меня. Но я уволюсь раньше. Нет времени прозябать, пресмыкаясь, в стабильном застое болотных вод, когда Псков – конечная, и все вопросы решаются здесь. А чтобы успеть их решить, эффективнее поступать по правде, потому как ложь отнимает слишком много времени и сил. А то и целую жизнь забирает, так ненавязчиво, незаметно. Особенно, когда лжешь самому себе – и нет лжи хуже, как утверждал Нидо.
Я вышел из здания суда, полной грудью вдохнув воздух свободы. Отчего-то вспомнил Марту, и в мыслях моих она подмигнула мне. Уверен, я обязательное встречу ее. Скажу больше: наша встреча неизбежна. Как неизбежно то, что когда-нибудь я снова окажусь в ее поезде. Но я искренне надеюсь, что к тому сроку я успею все, что должен успеть, и войду в вагон совершенно другим, без страха перед ее льдом и замершими розами, достойным ее руки.
02 октября 2024 г.
© Ядвига Симанова
Сквозняк
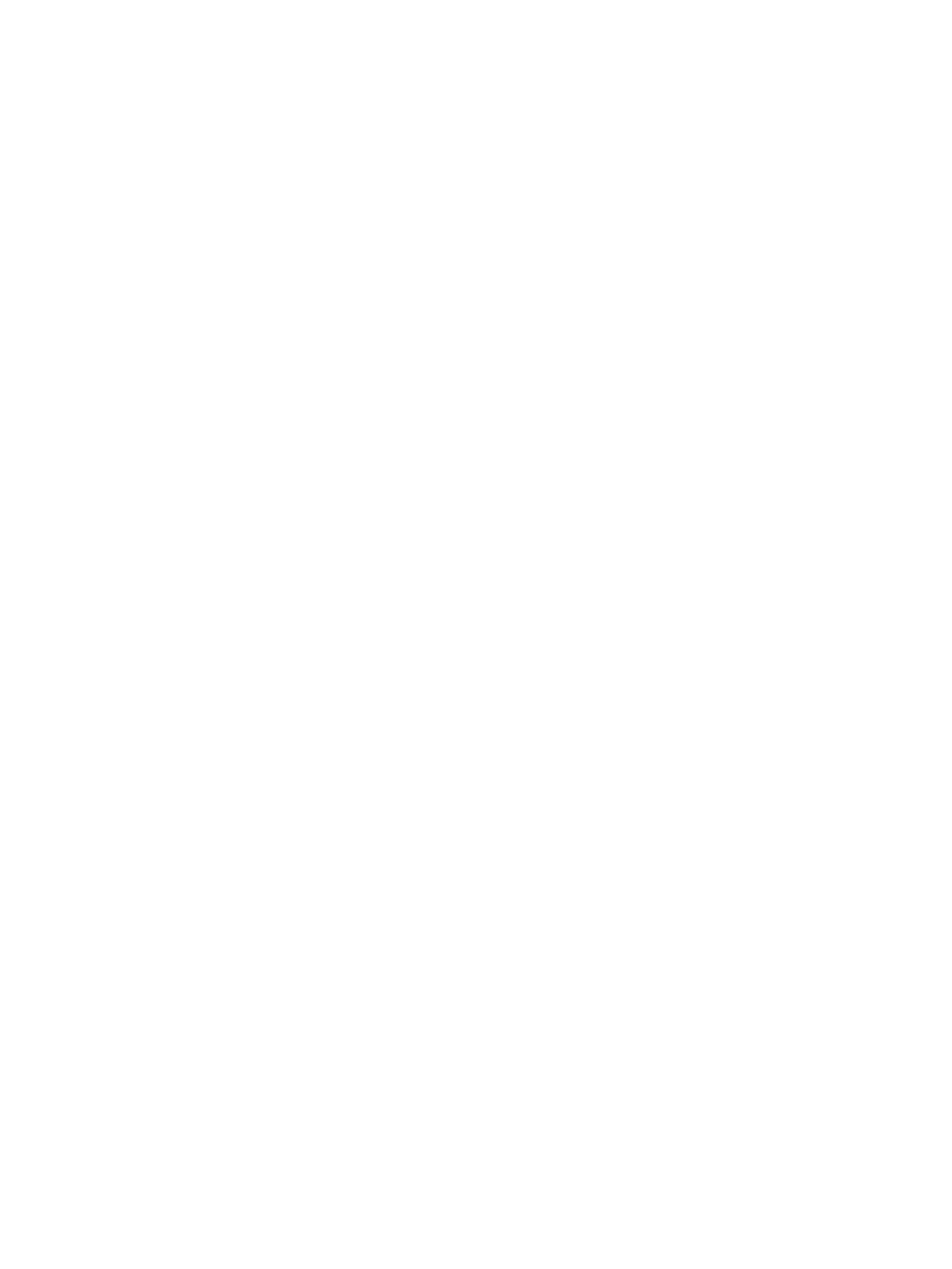
Художник Валентина Симонова
Они приходят незаметно, едва ощутимым холодком по спине, проникают сквозь запертые двери и заколоченные окна, просачиваясь через миллиметровые щели тончайшими струйками морозного ветра. Украдкой, постепенно ледяными зубчиками Они покусывают кожу – пробуют на вкус. Минутный дискомфорт, превратившись в немощь, становится невыносим. Ты горбишь спину, кутаешься теплее, не понимая, что виной тому – Они. Ставишь градусник, который, как обычно, врет, показывая 36,6, и ты ложишься спать в необъяснимой лихорадке. В доме тепло, но ты дышишь холодом, тянущимся извне, и промерзаешь до костей так, что и десяток шерстяных одеял не согреет тебя.
Ты надеешься сбежать в сон, но жар от глазниц и мелкая дрожь по всему телу ежесекундно вытаскивают из пропасти забытья в лихорадочный бред, и нет в том бреду спасения. Как быть ему, если непроходящий треск половиц в опустелом доме приводит к мысли о безумии.
«Все звуки у тебя в голове» - так бы сказал доктор. И ты веришь тому, что могло быть сказано. С головой зарываясь в одеяло, закрываешь уши.
Тогда Они начинают петь. Поначалу кажется, будто ветер свистит сквозь приоткрытую форточку. Но нет никаких распахнутых форточек – ты заранее самолично проверил все затворы. И не свист это, а музыка: пронзительная и прекрасная. Если бы не пустой дом и сквозняк, которому неоткуда взяться, ты бы подумал, что из дальнего далека доносятся звуки арии в исполнении бесподобной дивы из рок-оперы композитора, гений которого неоспорим.
Проникновенная мелодия баллады и ангельская чистота звучания голоса далекой звезды не умаляют твоего страха, а, напротив, приумножают его. Не стоит ждать добра от неизвестного, подступающего ночными мороками и пением, приходящим с хладным сквозняком.
Когда это началось…?
Впервые о Них заговорила Дина. Дина Георгиевна – так следовало бы ее называть, учитывая, что она была тебя вдвое старше. Твоя начальница, владела и управляла пригородным отелем в окрестностях Краснодара. Запросто приняла тебя на должность администратора при скудном резюме без каких-либо рекомендаций, когда другие не брали. Ты был вне себя от счастья: наконец, затянувшиеся поиски приличного места увенчались успехом, и преисполнен искренней благодарности. Не начальница, а золото! Мало того, что женщина - приятных манер и, невзирая на статус, легка в общении, для своих лет она выглядела роскошно. Стильная стрижка, благородный платиновый блонд. Темень глаз…Разве что их необычайно тяжелый взгляд отчасти выдавал возраст. И тяжесть эту не смягчала ни тонкая оправа модных очков, ни воздушная легкость любимых Диной жемчугов.
Ты откровенно радовался каждому ее визиту в гостиницу, и каждый раз расплывался в приветливой улыбке. Надо думать, твою благодарность начальница приняла за интерес, если одним вечером она не спешила уезжать, а ты не смел уйти раньше, когда сумерки за окнами сменила темь, и ты неспешно потягивал из трубочки уже вторую «Маргариту» за барным столиком под винтажным абажуром цвета переспелой вишни. Ты старался не замечать, но спешил отвести взгляд, когда она, методично прицеливаясь глазами, покушалась на твою приватность частыми затянувшимися паузами, чередующимся с вопросами невпопад.
- Что хочешь ты от жизни? – спросила Дина.
Неожиданный вопрос вызвал в тебе замешательство. И ответить нечего, и оттого неловко.
- Я?
Дина с усмешкой повертела головой, дав понять, что не видит вокруг никого, к кому бы еще она могла обратиться.
Вместо того, чтобы отказаться, ты, как двоечник у школьной доски, пытался выдавить из пустой головы абы какую «съедобную» мысль. Ты понятия не имел о правде, но вышло похоже:
- Ну, я хочу иметь столько денег, чтобы о них не думать. Вот, к примеру: иду по улице – захотел кофе и покупаю. Любой. Не глядя на ценник. Кофе – не цель, а пример. Хочу, чтобы так было во всем. Такая жизнь по мне!
Ты лыбился собственной глупости, словно цирковой клоун. Думал, она рассмеется. Но Дина, напротив, пребывала в серьезной задумчивости.
- Что ты готов отдать за такую жизнь? – наконец, спросила она.
В ответ ты объявил правдиво, что рад бы что отдать, да фокус в том, что предложить тебе нечего, совсем-совсем. Но Дина с необъяснимым упорством отказывалась верить. Взор и глас ее укоризненным: «нет-нет-нет» будто высверливали тебя в маниакальном стремлении вскрыть тебе самому неведомую правду.
- Не бывает так, чтобы ничего не было…
- Квартира съемная, езжу на автобусе, по институтской специальности ни дня не работал, а теперь без опыта не берут. Вот только благодаря вам, Дина Георгиевна, перебиваюсь сносно от зарплаты до зарплаты. Что с меня взять?
- Как знать… - полушепотом протянула Дина. – Говоришь, нет ничего? Ты – есть. Я тоже в свое время мечтала иметь больше. Готова была отдать все, ничего, при том, не имея, как считала сама.
- И что в итоге?
- Хотела. Получила. Отдала.
- Чем? – ты спрашивал, не понимая, зачем тебе знать. Ты всего-навсего поддерживал беседу, как думал ты.
- Телом, - ответила она, отбив всякую охоту к дальнейшим расспросам. Но женщина заговорила сама и снова загадками о странном: - Надо всегда быть готовым платить. Или не звать.
- Кого? – спросил ты, запутавшись окончательно.
- Их…
- Дина посмотрела поверх тебя, будто за твоей спиной стоял кто-то. Ты машинально обернулся, уперев взгляд в пустую стену.
- Они всегда приходят на зов. Приходят, чтобы забрать долг. Приходят, если отворить двери.
Она говорила словами из проходных ужастиков, какие ты, бывало, подростком «пережевывал» в веселой компании под свежеприготовленный в микроволновке попкорн, особо не включаясь в сюжетный смысл, зачастую в отсутствии такового, а так, прокручивал фоном, хрустя кукурузой в уютном кресле. И будто бы не было смысла в ее словах, как в тех самых «микроволновых» фильмах, но по мере того, как она говорила, тобою постепенно овладевал страх, не тот киношный, что в удовольствие щекочет нервы, а неподдельный животный ужас, не поддающийся рациональному объяснению.
Как под гипнозом ты вышел за ней из дверей гостиницы, по приглашению (или нет?) устроился на пассажирском сиденье ее «Кайена», и огни дорог замелькали в затемненном окне, увлекая все дальше от мира, что все более походил на сон.
- Вы здесь живете? – усомнившись, спросил ты, обнаружив, что шум автострады утих далеко позади, и автомобиль свернул на грунтовую дорогу без единого фонаря, остановился в низовье холма у обветшалой изгороди, за которой в объятиях иссохшего хмеля скрываясь от посторонних глаз, доживал дни старый бревенчатый дом.
- Жила. Раньше. Теперь заезжаю иногда. Пса надо кормить.
Ты, всегда сторонившийся собачьего племени, не на шутку напрягся, когда вы проходили мимо стоявшей во дворе собачьей будки. Ты предпочел отвернуться, дабы не видеть псину, достаточно было почуять ее запах – и ты, перемахнув через хлипкие перила, очутился на ступенях крыльца, опередив хозяйку.
Ты выждал, пропустив Дину вперед, и, войдя следом за ней в холодное помещение с запертыми ставнями задался вопросом: «Зачем она привела меня сюда?» Собственно, зачем – и так было понятно. Но почему именно сюда? Одинокая, необремененная обязательствами состоятельная дама выбирает место для встреч на отшибе богом забытого села…
Неуютно…Необъяснимая тяжесть легла на сердце, и сжалось все внутри. Но хозяйка включила в прихожей свет, и успокоительное тепло сей же час разлилось, заглянуло в маленькую комнату, где мягкая мебель, сочные ковры на полу и стенах источали гостеприимство и какую-то давно утраченную вместе с памятью о самом раннем детстве благость.
Ты доверился новому своему настроению – так было комфортнее, проще. Но ни в коем случае ты не желал гасить свет. Один единственный раз, когда ты потянулся к выключателю, но передумал в последний момент – миг, когда Дина расстегнула пояс, и под соскользнувшим на пол кардиганом оголились плечи – тебя кольнуло воспоминание: она заплатила телом… Ты вздрогнул от непрошенной мысли: что бы это могло значить? Торговала телом – не может быть! А что может? Увечье…Ты не стал гасить свет – по твоему разумению деликатнее было зажмуриться, предоставив воображению брезгливо живописать картины съемного протеза или подобие того… Но, к счастью, опасения не оправдались – все составляющие тела Дины были на месте, и все до единой – недурны.
Ты уже не жалел, что поддался, позволил увезти себя в эту глушь. Дина была хороша, даже если не делать скидок на возраст.
Дина вышла, а ты, нежась в постели под теплым одеялом, уже прикидывал, какие бонусы сулит в дальнейшем сегодняшнее спонтанное безумное приключение. Но вдохновенный поток мечтаний был прерван неожиданно и грубо скрипом дверных петель и сквозняком, ворвавшимся с улицы. На пороге стояла огромная чернявая псина: из пасти свисала слюна, черные глаза внимательно держали тебя на прицеле. Собака шагнула вперед, а дверь за ней захлопнулась. Ты словно угодил в капкан.
- Дина! – позвал ты и зачем-то буркнул собаке неуверенное: «Фу!» и тотчас зарылся с головой под одеяло.
Оставалось ждать. И… О, чудо! Ты дождался. Кто-то сильный рывком скинул твое укрытие. Твой испуганный взгляд столкнулся со взглядом Дины, а пса как не бывало, будто померещился.
- Не бойся! Бес незлобный. Он иногда заходит в дом со двора, если не защелкнуть засов.
Ты туго соображал и только спустя минуту – другую понял, что Дина имеет ввиду собаку, которая все же тебе не привиделась, и кличка у пса – Бес, кстати, вполне подходящая для его отталкивающей наружности.
- Я с детства побаиваюсь собак. Прости. Он дико напугал меня. Можно сделать так, чтобы он больше не приходил?
- Хорошо. Как скажешь, - произнесла Дина, с мягкой улыбкой погладив тебя по щеке. – Но если ты по-прежнему готов утвердиться в своем желании, тебе следует побороть страх.
- А то что?
- Придут Они. А страх открывает двери.
- Кто это – Они? Как Они выглядят?
- Они могут принимать любую личину или вовсе не иметь облика. Но ты непременно узнаешь, когда Они явятся, чтобы предъявить счет.
- Как узнаю?
- По сквозняку…
- Сквозняку? Как если открыть форточку? – ты гримасничал шутливо, но напряжение связок предательски выдавало высокий тон.
- Нет. Тот сквозняк ни с чем не сравнить, ни с чем не спутать.
- Но ты говорила, не звать – не придут. Я не собираюсь никого звать.
- И снова я повторю: Они приходят, если зовешь. Не собираешься звать – похвально! Жаль, не у каждого выходит.
На том окончился ваш путанный диалог. Беседа, повернувшая в русло понятных, обыденных тем, позвала рассвет, и тот прогнал многоликие тени, навеянные ночными мороками.
Не напрасно ты грезил о перспективах – расчет оказался верным. Не прошло и недели, как тебе повысили зарплату. В должности администратора ты получал по ставке как минимум управляющего. И цена кофе тебя уж точно больше не заботила. Если раньше ты прочно сидел на мели, не представляя как из застоя выбраться, то сейчас ты словно поймал волну.
Единственным обстоятельством, омрачавшим радужную картину, как ни парадоксально, была та связь, благодаря которой твои дела так круто пошли в гору. Связь, являвшая собой основу твоего благополучия, как нож, застрявший промеж ребер, орудие боли и одновременно стабилизатор, поддерживающий жизнь. Оставить Дину – означало лишиться всех выгод, и с осознанием этой зависимости отношения с ней превращались в бремя, что становилось невыносимее с каждых днем. Дом на окраине села, ее точеная фигура – на зависть многим, годящимся ей в дочери, тяжелые бездонные глаза хищницы, пес по кличке Бес, которого ты больше не видел (Дина сдержала слово), но понимание того, что он бродит где-то неподалеку, провоцировало нервические спазмы – от всего этого вместе: плохого ли, хорошего, хотелось бежать.
Некуда! И ты бы ни по чем не решился. Но вмешался случай. Как-то в отеле остановился важный гость – столичный чиновник. Ты любезно вызвался рассказать ему о достопримечательностях края. Между делом блеснул кое-какими знаниями об архитектуре – что помнил с институтской скамьи: ничего особенного, такая информация легко найдется в любой рекламной брошюре из тех, что вечно раскиданы на столиках в фойе. Но гость, как ни странно, был впечатлен. Накануне отъезда он зачем-то взял твой номер телефона, и спустя пару дней позвонил…с предложением, от которого закружилась голова. Если, получив должность администратора с завышенным окладом тебе казалось, что ты поймал волну, то грядущие перспективы представлялись настоящим цунами.
Ближайшим рейсом ты вылетел в Москву, второпях, пока фортуна не показала спину. Ты никак не мог поверить в сверхъестественное везение, вплоть до того, что чуть ли не каждые полчаса перечитывал сообщения от Константина Витальевича (так звали московского гостя), и каждый раз при включении экрана смартфона замирал сердцем, боясь не увидеть заветных строк в доказательство того, что приглашение не надумано, и все происходит наяву, происходит с тобой.
Не верил, пока тебе навстречу не распахнулись двери прозрачного как аквариум офисного здания в центре столицы, и поднимаясь на скоростном лифте немецкого образца, не зафиксировал взглядом собственное отражение в огромном, сияющим новизной зеркале. Невероятно, но это по-прежнему ты, и этот свет дневных ламп, глянец зеркал и флюиды от близости больших денег, щедро концентрированные в воздухе, которые не мог не учуять даже самый толстокожий индивидуум, - все было про тебя, за тебя, с тобой!
- Но…у меня нет опыта… - говорил ты, однако умом уже всецело предвкушая, как заживешь на головокружительной высоте в должности руководителя молодой строительной компании, которую взялся курировать ценитель кубанских здравниц.
- Веришь? У меня нет недостатка в опытных сотрудниках. В тебе я разглядел редкий потенциал. У меня глаз наметан. Осталось приложить трудолюбие, и мы сработаемся. Я могу на тебя рассчитывать? Сколько времени тебе потребуется, чтобы завершить все дела в Краснодаре?
- Две недели, - ответил ты, параллельно размышляя о том, что, пожалуй, это станет самым грустным периодом во всей истории.
Представил огорчение Дины, печаль на дне ее черных глаз – тебя потянуло на лирику… «Темнее ночь перед рассветом», - подумал ты, в то время как твой новый босс возразил:
- Две – много. Одна. Жду тебя здесь через неделю.
Ты вылетел в Краснодар, вышел на работу следующим днем. И Дина появилась в гостинице. К лучшему… Ты решил не откладывать тяжелый разговор на потом, рассказал ей о выгодном предложении москвича. Говорил, грех упускать такой шанс, посетовал на сжатые сроки, просил разрешения уволиться, не дожидаясь положенных к отработке двух недель.
Ты рассыпался в извинениях, объяснялся, настойчиво просил, видя, как на ее лицо опускаются тени. Ты даже содрогнулся внутри – так неприятно впечатлили тебя произошедшие с ней метаморфозы, - казалось, за считанные секунды к женщине подступила старость. Как не пытался, ты не мог прогнать охватившее тебя целиком чувство отторжения, помышляя лишь о том, чтобы Дина – по-хорошему, иль по-плохому – скорее тебя отпустила.
- Что ж…, - вымолвила Дина, подняв на тебя полные грусти и сожаления глаза. – Не скажу, что ты меня обрадовал. Если уверен, что справишься, используй шанс! Мешать не буду. Увольняйся, когда сочтешь нужным. Пиши заявление! Я не возражаю.
Ты улыбался по-детски, не скрывая радости, - объяснение далось намного легче, чем ты себе надумал. Ты пулей побежал оформляться. Когда, получив расчет и все нужные записи в трудовую книжку ты с легким сердцем покидал отель, снаружи у выхода тебя поджидала Дина. В алом брючном костюме стояла у авто, облокотившись о дверь. Ты собирался помахать ей рукой на прощание и пройти мимо, но она окликнула.
Ты подошел и сказал: «До свидания!», - глупее не придумать. Вместо прощальных слов Дина произнесла:
- Помни, прошу, всегда помни о том, что я говорила. Помни о Них. Не зови! Не отворяй двери!
- Да. Непременно. Разумеется, - ты соглашался, поддакивал, готов был обещать, что угодно, лишь бы скорее уйти.
- И… - - Дина провела ладонью по твоему плечу. – Между нами все остается по-прежнему?
- Да. Разумеется. Как иначе?
Ты быстро чмокнул ее в щеку.
- Буду ждать тебя у отеля в семь! До вечера!
- До вечера! – ты помахал ей рукой и зашагал прочь, обрадованный долгожданной свободе.
Тебя с Диной больше ничего не связывало. Бухгалтерия тебя рассчитала, документы при тебе. Впереди – Москва, карьера, жизнь «как хочу»! А что до Дины… Мало ли что ты пообещал…Ничего ты ей не должен. Ты больше от нее не зависишь, и при всем желании сделать она тебе уже ничего не сможет, ей до тебя не дотянуться.
С каким раздражением и отвращением ты вынужден был слушать, как надрывался вечером телефон от неумолкаемой череды звонков Дины. И как поутру ты был горд, что стойко выдержал натиск, перетерпел те неприятные часы.
Несколькими днями позже ты уже работал в Москве. Востребованные на практике, необычайно кстати вспомнились институтские дисциплины по проектированию и строительству зданий. Разнообразные идеи переполняли ум, и ты заботился лишь о том, чтобы ни одна не забылась. Возглавив компанию, ты не просто держался на плаву, а лихо следовал верному курсу, стоя у штурвала корабля имени Константина Витальевича, судна, которому благоволило быстрейшее из возможных течений удачи.
Поистине ты был увлечен, в особенности, когда старания начали приносить плоды. Как скоро ты вошел во вкус, поглощенный азартом зарабатывания и накопительства. Примерно спустя полгода ты приобрел чудесную холостятскую студию неподалеку от офиса. Проводил вечера с коллегами: такими же успешными, азартными и молодыми. Как будто не было Краснодара, невостребованности, нищеты.
Но все же прошлое отыскало дорогу, разбив окно в твой безоблачный мир, внезапно, вдруг. Тебе позвонили из Краснодара. Нотариус. Из его слов следовало, что Дина Георгиевна скоропостижно скончалась. Инсульт или инфаркт – ты не вникал в детали на фоне другой шокирующей, умом непостижимой новости. Твоя «мадам Брошкина» составила завещание, согласно коему ты являлся ее единственным наследником. Нотариус просил приехать, чтобы принять наследство или заявить отказ.
Вряд ли известие о смерти бывшей начальницы и любовницы всколыхнуло в тебе бурю эмоций. Ты вновь оказался перед дилеммой, и это обстоятельство тревожило всерьез. Желая выбросить на свалку все воспоминания о прошлом и, в частности, о периоде твоих зависимых отношений с Диной, тянущие за собой недостойные эпизоды твоей благодарности за ее подачки – крохи по нынешним меркам, ты всей душой противился возвращению (пускай на день) в Краснодар. С другой стороны, пребывание в Москве выработало в тебе, если не культ, то, как минимум, уважение к всему, что касается денежных вопросов. Ты честно вкладывал талант и усердие, взамен получая заслуженное вознаграждение. Ты научился ценить и оценивать каждый час работы, в уме автоматически переводил часы в деньги, и ни одного рубля не почитал лишним.
Азарт «поднять» больше денег в конечном счете поборол сомнения, и ты, скрепя сердце, явился-таки в нотариальную контору Краснодара. Нотариус, плешивый старичок Герман Иосифович, развернул лист с напечатанным завещанием Дины, и тебе показалось, что бумага все еще хранит аромат ее лавандовых духов.
- Что там? Зачитайте, будьте добры! – попросил ты, где-то в глубине сознания жалея о приезде – запах лаванды окутывал тесное помещение, отравляя сожалением и гнетущим чувством вины.
Герман Иосифович начал размеренно, чинно и мучительно медленно. Ты вынужден был просить почтенного юриста ограничиться пунктами «исключительно по делу».
- Итак, - с видимым неудовольствием огласил старик, - вам достается автомобиль марки «Порш Кайен», недвижимое имущество…/далее следовал внушительный список квартир и нежилых помещений с адресами/, денежные средства на счетах в общей сумме…./после услышанного лавандовый дух стал почти неуловим/ и собака – метис по кличке Бес.
«Черт с ним, с псом! Отдам. Мелочь в сравнении с таким профитом!» - подумал ты, но нотариус не закончил:
- Есть одно условие. Вы обязаны взять пса к себе и заботиться о нем до самой его смерти.
- Да. Хорошо. Разумеется, - согласился ты, тут и думать нечего. С псом ты как-нибудь сумеешь разобраться. – А родственники? Неужели Дина Георгиевна ничего им не оставила?
- Не нашлось у нее родственников. Одинокая была, - с сожалением констатировал старик.
В тот момент ты решил, что в океане удачи, успевшим сделаться таким привычным и родным, ты взлетел на гребень волны. В брызгах ликования, где тебе было заметить, что тогда же твое солнце закатилось за горизонт…
Ты перевел унаследованные средства в банке на свой счет, переоформил авто и недвижимость на свое имя. Оставалось незавершенным единственное дело: крайне неприятное, но от которого не отвертеться. Собравшись с духом, ты отправился в достопамятный, затерянный в весенней зелени дом с тем, чтобы в конце концов забрать пса. Ты до безумия боялся псину и захватил пневматический пистолет на случай, если животное вздумает огрызаться.
Подобно какому-то герою боевика, ты шагнул во двор, выставив вперед оружие. Боязливо приблизился к будке, заглянул внутрь – никого. «Должно быть собака содержится в доме» - решил ты и, прислушиваясь к малейшим шорохам, открыл замок и очутился в прихожей. На всякий случай проверил, хорошо ли захлопнулась дверь, после чего приступил к осмотру помещения в поисках паршивого пса. Собственно поиск не занял много времени, учитывая, что в тесном домишке крупному псу особо некуда деться. По сути, с порога было ясно, что псины тут нет.
Ты развернулся к выходу. В тот миг тебе почудилось, что в прихожей стало темнее, и без того малюсенький закуток будто сжался: плотная тень возникла у двери, закрыв проход. «Бес… Хороший пес…» - ты не знал, что мелешь, - страх обуял тебя с головы до пят. А пес тем временем, чихнув, медленно зигзагами двигался тебе навстречу. «Как он вошел? Я точно помню, как захлопнул дверь». Ты не находил ответа, и оттого смертный ужас сильнее сковывал члены. Черный силуэт Беса, очерченный полосками света, льющегося сквозь прорези в оконных ставнях, возник на угрожающем расстоянии вытянутой руки.
Идя на контакт, пес вроде бы не проявлял агрессии, но само его необъяснимое появление в доме вкупе с подозрительным безмолвием возводили возможность нападения в абсолютную уверенность, нагнетая во всем твоем существе панический ужас.
Ты уже предвидел атаку, отсчитывая секунды. И в миг, что ты считал последним, ты вспомнил об оружии. Руки дергались в постоянном треморе, и с этим ты ничего не мог поделать. С очередной судорогой тебе удалось нащупать курок и, должно быть, нажать – послышался свист пули в замершей тиши. С такого расстояния надо было умудриться не попасть. Тем не менее, казалось – ты промазал. Но пес заскулил, его повело в сторону. Наверное, ты его ранил – так или иначе, псина больше не мешалась в проходе. Ты стремглав достиг двери и выскочил на улицу, едва заметив, как вдогонку тебе просквозило шею внезапным порывом по-зимнему ледяного ветра, невесть откуда ворвавшегося в расцветающую весну.
Раненый пес остался в доме. «И поделом, - подумал ты, быстрее садясь в машину. - Ну его! Кто станет поверять – жив он или нет? «Пенек» этот, Иосифович? С ним как-нибудь улажу в случае чего. А сюда больше – ни ногой!».
Справедливости ради следует признать, что время от времени ты ощущал на себе строгие уколы совести. Мысль о судьбе раненой собаки, брошенной умирать, запоздалое раскаяние в том, что ты не выполнил условие завещания Дины, периодами посещали тебя. Но ты простодушно отвечал на самообвинение тем, что честно предпринял попытку исполнить волю умершей, но обстоятельства (над которыми ты, увы, не властен) сложились иначе, по-другому нельзя было поступить. Ты даже посетил церковь, свечу поминальную поставил (не то Дине, не то псу), дабы задобрить совесть. На том и ограничился.
Вскоре все мысли, касающиеся завещания Дины и несчастной собаки, отошли на задний план, потому как все твое время заняло решение куда более насущных проблем. Беда пришла, откуда не ждали.
Как профессионал в своей области (в качестве такового тебя и наняли), ты был сосредоточен на техническом выполнении проектов, начисто упуская из виду финансовую сторону деятельности компании. Между тем, именно финансы возглавляемого тобой предприятия неожиданно привлекли внимание налоговой и правоохранительных органов, и все шишки достались тебе как формальному руководителю организации. Ты буквально не вылезал из кабинетов, подвергаясь многочасовым допросам, офис постоянно штурмовали обысками. Адвокаты разводили руками – все шло наперекосяк.
В результате тебе было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. Единственным законным выходом было выплатить сумму недоимки и штрафа. Причем платить пришлось из своего кармана, потому как все друзья благополучно ретировались, словно забыв, что являются таковыми. А благодетель Константин Витальевич, не желая марать белые чиновничьи одежды, первым же от тебя открестился.
Вдобавок ты свалился с простудой: на первый взгляд, совершенно рядовой, но зараза оказалась на редкость затяжной и никак не проходила, высасывая оставшиеся силы. Ты и рад бы заняться поисками новой работы, но тебя едва хватало, чтобы высунуть свой вечно красный от раздражения сопливый нос из дома и перейти через улицу до ближайшей аптеки за очередным бестолковым лекарством.
Не просто далось тебе решение оставить московскую слякоть и переехать в Краснодар подлечиться в здоровом, привычном тебе климате. Сдал в наем студию в Москве и вернувшись на родину, поселился в одной из квартир, полученных в наследство от Дины.
Под мягким осенним солнцем родного юга ты начал потихоньку поправляться. Немного придя в себя, вдали от столичной суеты у тебя появилось время переосмыслить случившееся: «Что если виной всему Они? Те, о ком говорила Дина. Вдруг там (незнамо где) услышали мое желание? Разве не получил я жизнь, о которой мечтал? Запросто и скоро, как не могло произойти без вмешательства свыше. И закончилось все также быстро и вдруг. Дина говорила, Они придут за долгом. Вот и пришли. Вот и забрали. Но как Им удалось остаться незамеченными? Когда Они появились? Где? А главное – почему? Я же Их не звал!»
Недоумевая, в тревожных думах о Них ты успокаивал себя тем, что вы в расчете. Но ты ошибался. Дина не уточнила: Они мерят цену по-своему - те цены не имеют рыночного эквивалента.
Успокаивая себя, ты расслабился и, не готовый снести удар, тотчас получил под дых.
Старый «гриб» Герман Иосифович… Кто бы мог подумать, что именно он станет «вестником Апокалипсиса»! Без звонка он явился в твою квартиру. Деликатный, совестливый такой… Потрудился сообщить лично, а, заодно, принести извинения за допущенную оплошность.
- Уж простите Христа ради! Каюсь, не досмотрел. У покойной Дины Георгиевны братец сводный объявился. Родственник – не беда, завещанию не помеха. Беда, что он – неходячий инвалид, находился на иждивении наследодателя и теперь твердо намерен оспорить завещание. Право скажу, у него все шансы.
- Где же он раньше был? Почему теперь?
- Ох… - нотариус провел ладонью по лицу. – Совершенно безумная история… Он сам не далее, как пару недель назад вышел из комы. Его давно за мертвого почитали. А он возьми, да «воскресни»! Здоров – ручаюсь: умом уж точно, и, судя по боевому настрою, полон сил. Чудеса, да и только…
Нотариус удалился, и с его уходом ты вновь ощутил слабость, словно старик своим известием выкачал из тебя все силы. «А дверь за собой закрыть…?» - проворчал ты, когда старик исчез, предоставив тебя одиночеству, а мерзлый ветер хлестнул тебя по затылку, и ты вышел в прихожую затворить дверь. Но зря ты грешил на старика – дверь была захлопнута.
Тут ты вновь ощутил озноб. Проверил окна – закрыты. Несмотря на это, дуновение холодного ветра просачивалось под воротник рубашки. Ты кутался в одеяло, засыпал без сил, но озноб поникал и в сон, превращая в кошмар. И где-то на границе между сном и явью ты припомнил слова Дины: «Ты узнаешь Их по сквозняку». Вот он – сквозняк. Вот – Они.
Твой мозг отказывался соображать. С болезнью еще можно было бороться, с Ними – не находилось сил. Сквозняк вынуждал тебя жить в непроходящем холоде. В безразмерном шерстяном свитере ты сидел в квартире (снова съемной – ту отобрал наследник) и слушал ветер, которого не звал. Наверное, ты хотел знать, что будет дальше…
Дальше выяснилось, что единственным имуществом, на которое не претендовал так невовремя объявившийся наследник, не считая невостребованного им Кайена, был тот самый старый дом на отшибе.
Безумец, ты решил отправиться туда, в глухомань, где внутри старой халупы, вероятно, все еще догнивали останки брошенного тобою пса. Зачем? Ты рассчитывал найти ответы. Там, где все началось, ты надеялся все прекратить. На худой конец, закрыть счет.
Ты нашел дом спящим под застывшим солнцем, опалявшим двор. И вновь ты ошибся – дом не спал, а замер в ожидании…
Ты осторожно приоткрыл дверь, боясь не вынести зрелища мертвого пса в прихожей, на полу. Медленно вошел, сканируя взглядом каждый сантиметр половиц, скрип которых не следовал твоим шагам, а противоестественно предварял их.
Дом кряхтел, оживал, но пса на полу и вообще нигде больше не наблюдалось. «Возможно, он жив…» «Бес!» - ты окликнул. Тихо. Только дверь за спиной сама собою затворилась. Ты вздрогнул, но не пустился в бегство – как-никак ты приехал узнать ответ у Них.
Ты теряешься за уходящим днем, потемневшими окнами, шорохами и скрипами, вынужденный покориться всепроникающему холоду, сквозящему из незримых щелей. Они приходят незаметно, но ты узнаешь Их по сквозняку. Ветер усиливается, срывая с петель шторы под яростную музыку потустороннего гения. Ты начинаешь понемногу различать слова. Теперь ты слышишь Их, ты слышишь меня…
Стуча зубами, губами синими от холода, ты хрипло произносишь, не разбирая собственного голоса – он тонет в песнопениях, идущих из ледяной бездны:
- Я вас не звал! Зачем вы здесь? Что вам нужно?
- Не звал? Неужели?! – откликается песня, и каждая нота жалит, обжигая льдом твое дрожащее в лихорадке тело. – Ты звал, когда, потакая слабости, не нашел в себе мужества честно объясниться. Назначив свидание, бежал. Ты звал, когда, не нуждаясь в средствах, позарился на наследство женщины, которую сам отверг. Когда ранил собаку, что и не думала нападать, бросил пса умирать, в угоду надуманным страхам, - ты звал!
Ты не чувствуешь конечностей, тело немеет. Сквозняк меняет тебя, сковывая льдом изнутри. Задыхаясь, ты хрипишь:
- Она говорила, я должен открыть Вам двери. Видит бог – я не открывал!
- Ты заблуждаешься! – оглушительным воем трещинами на окнах порывается песня. – Мы – те, кто приходит на зов. Приходим, если отворить двери… Двери, что открывают слабость, жадность и трусость. Ты открыл…
Сложно сказать, в какой момент ты окончательно потерялся: когда в стоне ветра разгадал смысл, одновременно поняв, что смысл есть в чем угодно – только не в тебе… Или, когда посреди сквозняка и комнаты увидел пса…
Он смотрел, как меняешься ты, бездонной чернотой глаз – точь-в-точь таких, как глаза Дины. А всего-то и надо было, что слушать, смотреть и видеть смысл – хоть в чем-то, кроме себя. «Отдала телом…» - теперь ясно, как и кому. Ведь ты никогда не видел хозяйку и пса вместе. И предал дважды. Одни глаза. Один Бес.
Что ж… Ты приехал, чтобы найти ответ. И нашел. Ты приехал рассчитаться. Почти… Будь у тебя силы, ты бы противостоял льду. Будь ты добр и щедр, ты бы дал мне приют. Тебе не достает смелости согреться изнутри. Так ты становишься льдом и таешь с первым лучом солнца южной осени, заглянувшим в окно.
Я вижу талый лед. Лужу… Я пью тебя, потому что давно страдаю от жажды. Пью, не жалея, как могла бы жалеть Дина. Пока не изменилась. Они изменили. Я перестала ею быть с той поры, когда позвала…
10.01.2025 ® Ядвига Симанова
Ты надеешься сбежать в сон, но жар от глазниц и мелкая дрожь по всему телу ежесекундно вытаскивают из пропасти забытья в лихорадочный бред, и нет в том бреду спасения. Как быть ему, если непроходящий треск половиц в опустелом доме приводит к мысли о безумии.
«Все звуки у тебя в голове» - так бы сказал доктор. И ты веришь тому, что могло быть сказано. С головой зарываясь в одеяло, закрываешь уши.
Тогда Они начинают петь. Поначалу кажется, будто ветер свистит сквозь приоткрытую форточку. Но нет никаких распахнутых форточек – ты заранее самолично проверил все затворы. И не свист это, а музыка: пронзительная и прекрасная. Если бы не пустой дом и сквозняк, которому неоткуда взяться, ты бы подумал, что из дальнего далека доносятся звуки арии в исполнении бесподобной дивы из рок-оперы композитора, гений которого неоспорим.
Проникновенная мелодия баллады и ангельская чистота звучания голоса далекой звезды не умаляют твоего страха, а, напротив, приумножают его. Не стоит ждать добра от неизвестного, подступающего ночными мороками и пением, приходящим с хладным сквозняком.
Когда это началось…?
Впервые о Них заговорила Дина. Дина Георгиевна – так следовало бы ее называть, учитывая, что она была тебя вдвое старше. Твоя начальница, владела и управляла пригородным отелем в окрестностях Краснодара. Запросто приняла тебя на должность администратора при скудном резюме без каких-либо рекомендаций, когда другие не брали. Ты был вне себя от счастья: наконец, затянувшиеся поиски приличного места увенчались успехом, и преисполнен искренней благодарности. Не начальница, а золото! Мало того, что женщина - приятных манер и, невзирая на статус, легка в общении, для своих лет она выглядела роскошно. Стильная стрижка, благородный платиновый блонд. Темень глаз…Разве что их необычайно тяжелый взгляд отчасти выдавал возраст. И тяжесть эту не смягчала ни тонкая оправа модных очков, ни воздушная легкость любимых Диной жемчугов.
Ты откровенно радовался каждому ее визиту в гостиницу, и каждый раз расплывался в приветливой улыбке. Надо думать, твою благодарность начальница приняла за интерес, если одним вечером она не спешила уезжать, а ты не смел уйти раньше, когда сумерки за окнами сменила темь, и ты неспешно потягивал из трубочки уже вторую «Маргариту» за барным столиком под винтажным абажуром цвета переспелой вишни. Ты старался не замечать, но спешил отвести взгляд, когда она, методично прицеливаясь глазами, покушалась на твою приватность частыми затянувшимися паузами, чередующимся с вопросами невпопад.
- Что хочешь ты от жизни? – спросила Дина.
Неожиданный вопрос вызвал в тебе замешательство. И ответить нечего, и оттого неловко.
- Я?
Дина с усмешкой повертела головой, дав понять, что не видит вокруг никого, к кому бы еще она могла обратиться.
Вместо того, чтобы отказаться, ты, как двоечник у школьной доски, пытался выдавить из пустой головы абы какую «съедобную» мысль. Ты понятия не имел о правде, но вышло похоже:
- Ну, я хочу иметь столько денег, чтобы о них не думать. Вот, к примеру: иду по улице – захотел кофе и покупаю. Любой. Не глядя на ценник. Кофе – не цель, а пример. Хочу, чтобы так было во всем. Такая жизнь по мне!
Ты лыбился собственной глупости, словно цирковой клоун. Думал, она рассмеется. Но Дина, напротив, пребывала в серьезной задумчивости.
- Что ты готов отдать за такую жизнь? – наконец, спросила она.
В ответ ты объявил правдиво, что рад бы что отдать, да фокус в том, что предложить тебе нечего, совсем-совсем. Но Дина с необъяснимым упорством отказывалась верить. Взор и глас ее укоризненным: «нет-нет-нет» будто высверливали тебя в маниакальном стремлении вскрыть тебе самому неведомую правду.
- Не бывает так, чтобы ничего не было…
- Квартира съемная, езжу на автобусе, по институтской специальности ни дня не работал, а теперь без опыта не берут. Вот только благодаря вам, Дина Георгиевна, перебиваюсь сносно от зарплаты до зарплаты. Что с меня взять?
- Как знать… - полушепотом протянула Дина. – Говоришь, нет ничего? Ты – есть. Я тоже в свое время мечтала иметь больше. Готова была отдать все, ничего, при том, не имея, как считала сама.
- И что в итоге?
- Хотела. Получила. Отдала.
- Чем? – ты спрашивал, не понимая, зачем тебе знать. Ты всего-навсего поддерживал беседу, как думал ты.
- Телом, - ответила она, отбив всякую охоту к дальнейшим расспросам. Но женщина заговорила сама и снова загадками о странном: - Надо всегда быть готовым платить. Или не звать.
- Кого? – спросил ты, запутавшись окончательно.
- Их…
- Дина посмотрела поверх тебя, будто за твоей спиной стоял кто-то. Ты машинально обернулся, уперев взгляд в пустую стену.
- Они всегда приходят на зов. Приходят, чтобы забрать долг. Приходят, если отворить двери.
Она говорила словами из проходных ужастиков, какие ты, бывало, подростком «пережевывал» в веселой компании под свежеприготовленный в микроволновке попкорн, особо не включаясь в сюжетный смысл, зачастую в отсутствии такового, а так, прокручивал фоном, хрустя кукурузой в уютном кресле. И будто бы не было смысла в ее словах, как в тех самых «микроволновых» фильмах, но по мере того, как она говорила, тобою постепенно овладевал страх, не тот киношный, что в удовольствие щекочет нервы, а неподдельный животный ужас, не поддающийся рациональному объяснению.
Как под гипнозом ты вышел за ней из дверей гостиницы, по приглашению (или нет?) устроился на пассажирском сиденье ее «Кайена», и огни дорог замелькали в затемненном окне, увлекая все дальше от мира, что все более походил на сон.
- Вы здесь живете? – усомнившись, спросил ты, обнаружив, что шум автострады утих далеко позади, и автомобиль свернул на грунтовую дорогу без единого фонаря, остановился в низовье холма у обветшалой изгороди, за которой в объятиях иссохшего хмеля скрываясь от посторонних глаз, доживал дни старый бревенчатый дом.
- Жила. Раньше. Теперь заезжаю иногда. Пса надо кормить.
Ты, всегда сторонившийся собачьего племени, не на шутку напрягся, когда вы проходили мимо стоявшей во дворе собачьей будки. Ты предпочел отвернуться, дабы не видеть псину, достаточно было почуять ее запах – и ты, перемахнув через хлипкие перила, очутился на ступенях крыльца, опередив хозяйку.
Ты выждал, пропустив Дину вперед, и, войдя следом за ней в холодное помещение с запертыми ставнями задался вопросом: «Зачем она привела меня сюда?» Собственно, зачем – и так было понятно. Но почему именно сюда? Одинокая, необремененная обязательствами состоятельная дама выбирает место для встреч на отшибе богом забытого села…
Неуютно…Необъяснимая тяжесть легла на сердце, и сжалось все внутри. Но хозяйка включила в прихожей свет, и успокоительное тепло сей же час разлилось, заглянуло в маленькую комнату, где мягкая мебель, сочные ковры на полу и стенах источали гостеприимство и какую-то давно утраченную вместе с памятью о самом раннем детстве благость.
Ты доверился новому своему настроению – так было комфортнее, проще. Но ни в коем случае ты не желал гасить свет. Один единственный раз, когда ты потянулся к выключателю, но передумал в последний момент – миг, когда Дина расстегнула пояс, и под соскользнувшим на пол кардиганом оголились плечи – тебя кольнуло воспоминание: она заплатила телом… Ты вздрогнул от непрошенной мысли: что бы это могло значить? Торговала телом – не может быть! А что может? Увечье…Ты не стал гасить свет – по твоему разумению деликатнее было зажмуриться, предоставив воображению брезгливо живописать картины съемного протеза или подобие того… Но, к счастью, опасения не оправдались – все составляющие тела Дины были на месте, и все до единой – недурны.
Ты уже не жалел, что поддался, позволил увезти себя в эту глушь. Дина была хороша, даже если не делать скидок на возраст.
Дина вышла, а ты, нежась в постели под теплым одеялом, уже прикидывал, какие бонусы сулит в дальнейшем сегодняшнее спонтанное безумное приключение. Но вдохновенный поток мечтаний был прерван неожиданно и грубо скрипом дверных петель и сквозняком, ворвавшимся с улицы. На пороге стояла огромная чернявая псина: из пасти свисала слюна, черные глаза внимательно держали тебя на прицеле. Собака шагнула вперед, а дверь за ней захлопнулась. Ты словно угодил в капкан.
- Дина! – позвал ты и зачем-то буркнул собаке неуверенное: «Фу!» и тотчас зарылся с головой под одеяло.
Оставалось ждать. И… О, чудо! Ты дождался. Кто-то сильный рывком скинул твое укрытие. Твой испуганный взгляд столкнулся со взглядом Дины, а пса как не бывало, будто померещился.
- Не бойся! Бес незлобный. Он иногда заходит в дом со двора, если не защелкнуть засов.
Ты туго соображал и только спустя минуту – другую понял, что Дина имеет ввиду собаку, которая все же тебе не привиделась, и кличка у пса – Бес, кстати, вполне подходящая для его отталкивающей наружности.
- Я с детства побаиваюсь собак. Прости. Он дико напугал меня. Можно сделать так, чтобы он больше не приходил?
- Хорошо. Как скажешь, - произнесла Дина, с мягкой улыбкой погладив тебя по щеке. – Но если ты по-прежнему готов утвердиться в своем желании, тебе следует побороть страх.
- А то что?
- Придут Они. А страх открывает двери.
- Кто это – Они? Как Они выглядят?
- Они могут принимать любую личину или вовсе не иметь облика. Но ты непременно узнаешь, когда Они явятся, чтобы предъявить счет.
- Как узнаю?
- По сквозняку…
- Сквозняку? Как если открыть форточку? – ты гримасничал шутливо, но напряжение связок предательски выдавало высокий тон.
- Нет. Тот сквозняк ни с чем не сравнить, ни с чем не спутать.
- Но ты говорила, не звать – не придут. Я не собираюсь никого звать.
- И снова я повторю: Они приходят, если зовешь. Не собираешься звать – похвально! Жаль, не у каждого выходит.
На том окончился ваш путанный диалог. Беседа, повернувшая в русло понятных, обыденных тем, позвала рассвет, и тот прогнал многоликие тени, навеянные ночными мороками.
Не напрасно ты грезил о перспективах – расчет оказался верным. Не прошло и недели, как тебе повысили зарплату. В должности администратора ты получал по ставке как минимум управляющего. И цена кофе тебя уж точно больше не заботила. Если раньше ты прочно сидел на мели, не представляя как из застоя выбраться, то сейчас ты словно поймал волну.
Единственным обстоятельством, омрачавшим радужную картину, как ни парадоксально, была та связь, благодаря которой твои дела так круто пошли в гору. Связь, являвшая собой основу твоего благополучия, как нож, застрявший промеж ребер, орудие боли и одновременно стабилизатор, поддерживающий жизнь. Оставить Дину – означало лишиться всех выгод, и с осознанием этой зависимости отношения с ней превращались в бремя, что становилось невыносимее с каждых днем. Дом на окраине села, ее точеная фигура – на зависть многим, годящимся ей в дочери, тяжелые бездонные глаза хищницы, пес по кличке Бес, которого ты больше не видел (Дина сдержала слово), но понимание того, что он бродит где-то неподалеку, провоцировало нервические спазмы – от всего этого вместе: плохого ли, хорошего, хотелось бежать.
Некуда! И ты бы ни по чем не решился. Но вмешался случай. Как-то в отеле остановился важный гость – столичный чиновник. Ты любезно вызвался рассказать ему о достопримечательностях края. Между делом блеснул кое-какими знаниями об архитектуре – что помнил с институтской скамьи: ничего особенного, такая информация легко найдется в любой рекламной брошюре из тех, что вечно раскиданы на столиках в фойе. Но гость, как ни странно, был впечатлен. Накануне отъезда он зачем-то взял твой номер телефона, и спустя пару дней позвонил…с предложением, от которого закружилась голова. Если, получив должность администратора с завышенным окладом тебе казалось, что ты поймал волну, то грядущие перспективы представлялись настоящим цунами.
Ближайшим рейсом ты вылетел в Москву, второпях, пока фортуна не показала спину. Ты никак не мог поверить в сверхъестественное везение, вплоть до того, что чуть ли не каждые полчаса перечитывал сообщения от Константина Витальевича (так звали московского гостя), и каждый раз при включении экрана смартфона замирал сердцем, боясь не увидеть заветных строк в доказательство того, что приглашение не надумано, и все происходит наяву, происходит с тобой.
Не верил, пока тебе навстречу не распахнулись двери прозрачного как аквариум офисного здания в центре столицы, и поднимаясь на скоростном лифте немецкого образца, не зафиксировал взглядом собственное отражение в огромном, сияющим новизной зеркале. Невероятно, но это по-прежнему ты, и этот свет дневных ламп, глянец зеркал и флюиды от близости больших денег, щедро концентрированные в воздухе, которые не мог не учуять даже самый толстокожий индивидуум, - все было про тебя, за тебя, с тобой!
- Но…у меня нет опыта… - говорил ты, однако умом уже всецело предвкушая, как заживешь на головокружительной высоте в должности руководителя молодой строительной компании, которую взялся курировать ценитель кубанских здравниц.
- Веришь? У меня нет недостатка в опытных сотрудниках. В тебе я разглядел редкий потенциал. У меня глаз наметан. Осталось приложить трудолюбие, и мы сработаемся. Я могу на тебя рассчитывать? Сколько времени тебе потребуется, чтобы завершить все дела в Краснодаре?
- Две недели, - ответил ты, параллельно размышляя о том, что, пожалуй, это станет самым грустным периодом во всей истории.
Представил огорчение Дины, печаль на дне ее черных глаз – тебя потянуло на лирику… «Темнее ночь перед рассветом», - подумал ты, в то время как твой новый босс возразил:
- Две – много. Одна. Жду тебя здесь через неделю.
Ты вылетел в Краснодар, вышел на работу следующим днем. И Дина появилась в гостинице. К лучшему… Ты решил не откладывать тяжелый разговор на потом, рассказал ей о выгодном предложении москвича. Говорил, грех упускать такой шанс, посетовал на сжатые сроки, просил разрешения уволиться, не дожидаясь положенных к отработке двух недель.
Ты рассыпался в извинениях, объяснялся, настойчиво просил, видя, как на ее лицо опускаются тени. Ты даже содрогнулся внутри – так неприятно впечатлили тебя произошедшие с ней метаморфозы, - казалось, за считанные секунды к женщине подступила старость. Как не пытался, ты не мог прогнать охватившее тебя целиком чувство отторжения, помышляя лишь о том, чтобы Дина – по-хорошему, иль по-плохому – скорее тебя отпустила.
- Что ж…, - вымолвила Дина, подняв на тебя полные грусти и сожаления глаза. – Не скажу, что ты меня обрадовал. Если уверен, что справишься, используй шанс! Мешать не буду. Увольняйся, когда сочтешь нужным. Пиши заявление! Я не возражаю.
Ты улыбался по-детски, не скрывая радости, - объяснение далось намного легче, чем ты себе надумал. Ты пулей побежал оформляться. Когда, получив расчет и все нужные записи в трудовую книжку ты с легким сердцем покидал отель, снаружи у выхода тебя поджидала Дина. В алом брючном костюме стояла у авто, облокотившись о дверь. Ты собирался помахать ей рукой на прощание и пройти мимо, но она окликнула.
Ты подошел и сказал: «До свидания!», - глупее не придумать. Вместо прощальных слов Дина произнесла:
- Помни, прошу, всегда помни о том, что я говорила. Помни о Них. Не зови! Не отворяй двери!
- Да. Непременно. Разумеется, - ты соглашался, поддакивал, готов был обещать, что угодно, лишь бы скорее уйти.
- И… - - Дина провела ладонью по твоему плечу. – Между нами все остается по-прежнему?
- Да. Разумеется. Как иначе?
Ты быстро чмокнул ее в щеку.
- Буду ждать тебя у отеля в семь! До вечера!
- До вечера! – ты помахал ей рукой и зашагал прочь, обрадованный долгожданной свободе.
Тебя с Диной больше ничего не связывало. Бухгалтерия тебя рассчитала, документы при тебе. Впереди – Москва, карьера, жизнь «как хочу»! А что до Дины… Мало ли что ты пообещал…Ничего ты ей не должен. Ты больше от нее не зависишь, и при всем желании сделать она тебе уже ничего не сможет, ей до тебя не дотянуться.
С каким раздражением и отвращением ты вынужден был слушать, как надрывался вечером телефон от неумолкаемой череды звонков Дины. И как поутру ты был горд, что стойко выдержал натиск, перетерпел те неприятные часы.
Несколькими днями позже ты уже работал в Москве. Востребованные на практике, необычайно кстати вспомнились институтские дисциплины по проектированию и строительству зданий. Разнообразные идеи переполняли ум, и ты заботился лишь о том, чтобы ни одна не забылась. Возглавив компанию, ты не просто держался на плаву, а лихо следовал верному курсу, стоя у штурвала корабля имени Константина Витальевича, судна, которому благоволило быстрейшее из возможных течений удачи.
Поистине ты был увлечен, в особенности, когда старания начали приносить плоды. Как скоро ты вошел во вкус, поглощенный азартом зарабатывания и накопительства. Примерно спустя полгода ты приобрел чудесную холостятскую студию неподалеку от офиса. Проводил вечера с коллегами: такими же успешными, азартными и молодыми. Как будто не было Краснодара, невостребованности, нищеты.
Но все же прошлое отыскало дорогу, разбив окно в твой безоблачный мир, внезапно, вдруг. Тебе позвонили из Краснодара. Нотариус. Из его слов следовало, что Дина Георгиевна скоропостижно скончалась. Инсульт или инфаркт – ты не вникал в детали на фоне другой шокирующей, умом непостижимой новости. Твоя «мадам Брошкина» составила завещание, согласно коему ты являлся ее единственным наследником. Нотариус просил приехать, чтобы принять наследство или заявить отказ.
Вряд ли известие о смерти бывшей начальницы и любовницы всколыхнуло в тебе бурю эмоций. Ты вновь оказался перед дилеммой, и это обстоятельство тревожило всерьез. Желая выбросить на свалку все воспоминания о прошлом и, в частности, о периоде твоих зависимых отношений с Диной, тянущие за собой недостойные эпизоды твоей благодарности за ее подачки – крохи по нынешним меркам, ты всей душой противился возвращению (пускай на день) в Краснодар. С другой стороны, пребывание в Москве выработало в тебе, если не культ, то, как минимум, уважение к всему, что касается денежных вопросов. Ты честно вкладывал талант и усердие, взамен получая заслуженное вознаграждение. Ты научился ценить и оценивать каждый час работы, в уме автоматически переводил часы в деньги, и ни одного рубля не почитал лишним.
Азарт «поднять» больше денег в конечном счете поборол сомнения, и ты, скрепя сердце, явился-таки в нотариальную контору Краснодара. Нотариус, плешивый старичок Герман Иосифович, развернул лист с напечатанным завещанием Дины, и тебе показалось, что бумага все еще хранит аромат ее лавандовых духов.
- Что там? Зачитайте, будьте добры! – попросил ты, где-то в глубине сознания жалея о приезде – запах лаванды окутывал тесное помещение, отравляя сожалением и гнетущим чувством вины.
Герман Иосифович начал размеренно, чинно и мучительно медленно. Ты вынужден был просить почтенного юриста ограничиться пунктами «исключительно по делу».
- Итак, - с видимым неудовольствием огласил старик, - вам достается автомобиль марки «Порш Кайен», недвижимое имущество…/далее следовал внушительный список квартир и нежилых помещений с адресами/, денежные средства на счетах в общей сумме…./после услышанного лавандовый дух стал почти неуловим/ и собака – метис по кличке Бес.
«Черт с ним, с псом! Отдам. Мелочь в сравнении с таким профитом!» - подумал ты, но нотариус не закончил:
- Есть одно условие. Вы обязаны взять пса к себе и заботиться о нем до самой его смерти.
- Да. Хорошо. Разумеется, - согласился ты, тут и думать нечего. С псом ты как-нибудь сумеешь разобраться. – А родственники? Неужели Дина Георгиевна ничего им не оставила?
- Не нашлось у нее родственников. Одинокая была, - с сожалением констатировал старик.
В тот момент ты решил, что в океане удачи, успевшим сделаться таким привычным и родным, ты взлетел на гребень волны. В брызгах ликования, где тебе было заметить, что тогда же твое солнце закатилось за горизонт…
Ты перевел унаследованные средства в банке на свой счет, переоформил авто и недвижимость на свое имя. Оставалось незавершенным единственное дело: крайне неприятное, но от которого не отвертеться. Собравшись с духом, ты отправился в достопамятный, затерянный в весенней зелени дом с тем, чтобы в конце концов забрать пса. Ты до безумия боялся псину и захватил пневматический пистолет на случай, если животное вздумает огрызаться.
Подобно какому-то герою боевика, ты шагнул во двор, выставив вперед оружие. Боязливо приблизился к будке, заглянул внутрь – никого. «Должно быть собака содержится в доме» - решил ты и, прислушиваясь к малейшим шорохам, открыл замок и очутился в прихожей. На всякий случай проверил, хорошо ли захлопнулась дверь, после чего приступил к осмотру помещения в поисках паршивого пса. Собственно поиск не занял много времени, учитывая, что в тесном домишке крупному псу особо некуда деться. По сути, с порога было ясно, что псины тут нет.
Ты развернулся к выходу. В тот миг тебе почудилось, что в прихожей стало темнее, и без того малюсенький закуток будто сжался: плотная тень возникла у двери, закрыв проход. «Бес… Хороший пес…» - ты не знал, что мелешь, - страх обуял тебя с головы до пят. А пес тем временем, чихнув, медленно зигзагами двигался тебе навстречу. «Как он вошел? Я точно помню, как захлопнул дверь». Ты не находил ответа, и оттого смертный ужас сильнее сковывал члены. Черный силуэт Беса, очерченный полосками света, льющегося сквозь прорези в оконных ставнях, возник на угрожающем расстоянии вытянутой руки.
Идя на контакт, пес вроде бы не проявлял агрессии, но само его необъяснимое появление в доме вкупе с подозрительным безмолвием возводили возможность нападения в абсолютную уверенность, нагнетая во всем твоем существе панический ужас.
Ты уже предвидел атаку, отсчитывая секунды. И в миг, что ты считал последним, ты вспомнил об оружии. Руки дергались в постоянном треморе, и с этим ты ничего не мог поделать. С очередной судорогой тебе удалось нащупать курок и, должно быть, нажать – послышался свист пули в замершей тиши. С такого расстояния надо было умудриться не попасть. Тем не менее, казалось – ты промазал. Но пес заскулил, его повело в сторону. Наверное, ты его ранил – так или иначе, псина больше не мешалась в проходе. Ты стремглав достиг двери и выскочил на улицу, едва заметив, как вдогонку тебе просквозило шею внезапным порывом по-зимнему ледяного ветра, невесть откуда ворвавшегося в расцветающую весну.
Раненый пес остался в доме. «И поделом, - подумал ты, быстрее садясь в машину. - Ну его! Кто станет поверять – жив он или нет? «Пенек» этот, Иосифович? С ним как-нибудь улажу в случае чего. А сюда больше – ни ногой!».
Справедливости ради следует признать, что время от времени ты ощущал на себе строгие уколы совести. Мысль о судьбе раненой собаки, брошенной умирать, запоздалое раскаяние в том, что ты не выполнил условие завещания Дины, периодами посещали тебя. Но ты простодушно отвечал на самообвинение тем, что честно предпринял попытку исполнить волю умершей, но обстоятельства (над которыми ты, увы, не властен) сложились иначе, по-другому нельзя было поступить. Ты даже посетил церковь, свечу поминальную поставил (не то Дине, не то псу), дабы задобрить совесть. На том и ограничился.
Вскоре все мысли, касающиеся завещания Дины и несчастной собаки, отошли на задний план, потому как все твое время заняло решение куда более насущных проблем. Беда пришла, откуда не ждали.
Как профессионал в своей области (в качестве такового тебя и наняли), ты был сосредоточен на техническом выполнении проектов, начисто упуская из виду финансовую сторону деятельности компании. Между тем, именно финансы возглавляемого тобой предприятия неожиданно привлекли внимание налоговой и правоохранительных органов, и все шишки достались тебе как формальному руководителю организации. Ты буквально не вылезал из кабинетов, подвергаясь многочасовым допросам, офис постоянно штурмовали обысками. Адвокаты разводили руками – все шло наперекосяк.
В результате тебе было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. Единственным законным выходом было выплатить сумму недоимки и штрафа. Причем платить пришлось из своего кармана, потому как все друзья благополучно ретировались, словно забыв, что являются таковыми. А благодетель Константин Витальевич, не желая марать белые чиновничьи одежды, первым же от тебя открестился.
Вдобавок ты свалился с простудой: на первый взгляд, совершенно рядовой, но зараза оказалась на редкость затяжной и никак не проходила, высасывая оставшиеся силы. Ты и рад бы заняться поисками новой работы, но тебя едва хватало, чтобы высунуть свой вечно красный от раздражения сопливый нос из дома и перейти через улицу до ближайшей аптеки за очередным бестолковым лекарством.
Не просто далось тебе решение оставить московскую слякоть и переехать в Краснодар подлечиться в здоровом, привычном тебе климате. Сдал в наем студию в Москве и вернувшись на родину, поселился в одной из квартир, полученных в наследство от Дины.
Под мягким осенним солнцем родного юга ты начал потихоньку поправляться. Немного придя в себя, вдали от столичной суеты у тебя появилось время переосмыслить случившееся: «Что если виной всему Они? Те, о ком говорила Дина. Вдруг там (незнамо где) услышали мое желание? Разве не получил я жизнь, о которой мечтал? Запросто и скоро, как не могло произойти без вмешательства свыше. И закончилось все также быстро и вдруг. Дина говорила, Они придут за долгом. Вот и пришли. Вот и забрали. Но как Им удалось остаться незамеченными? Когда Они появились? Где? А главное – почему? Я же Их не звал!»
Недоумевая, в тревожных думах о Них ты успокаивал себя тем, что вы в расчете. Но ты ошибался. Дина не уточнила: Они мерят цену по-своему - те цены не имеют рыночного эквивалента.
Успокаивая себя, ты расслабился и, не готовый снести удар, тотчас получил под дых.
Старый «гриб» Герман Иосифович… Кто бы мог подумать, что именно он станет «вестником Апокалипсиса»! Без звонка он явился в твою квартиру. Деликатный, совестливый такой… Потрудился сообщить лично, а, заодно, принести извинения за допущенную оплошность.
- Уж простите Христа ради! Каюсь, не досмотрел. У покойной Дины Георгиевны братец сводный объявился. Родственник – не беда, завещанию не помеха. Беда, что он – неходячий инвалид, находился на иждивении наследодателя и теперь твердо намерен оспорить завещание. Право скажу, у него все шансы.
- Где же он раньше был? Почему теперь?
- Ох… - нотариус провел ладонью по лицу. – Совершенно безумная история… Он сам не далее, как пару недель назад вышел из комы. Его давно за мертвого почитали. А он возьми, да «воскресни»! Здоров – ручаюсь: умом уж точно, и, судя по боевому настрою, полон сил. Чудеса, да и только…
Нотариус удалился, и с его уходом ты вновь ощутил слабость, словно старик своим известием выкачал из тебя все силы. «А дверь за собой закрыть…?» - проворчал ты, когда старик исчез, предоставив тебя одиночеству, а мерзлый ветер хлестнул тебя по затылку, и ты вышел в прихожую затворить дверь. Но зря ты грешил на старика – дверь была захлопнута.
Тут ты вновь ощутил озноб. Проверил окна – закрыты. Несмотря на это, дуновение холодного ветра просачивалось под воротник рубашки. Ты кутался в одеяло, засыпал без сил, но озноб поникал и в сон, превращая в кошмар. И где-то на границе между сном и явью ты припомнил слова Дины: «Ты узнаешь Их по сквозняку». Вот он – сквозняк. Вот – Они.
Твой мозг отказывался соображать. С болезнью еще можно было бороться, с Ними – не находилось сил. Сквозняк вынуждал тебя жить в непроходящем холоде. В безразмерном шерстяном свитере ты сидел в квартире (снова съемной – ту отобрал наследник) и слушал ветер, которого не звал. Наверное, ты хотел знать, что будет дальше…
Дальше выяснилось, что единственным имуществом, на которое не претендовал так невовремя объявившийся наследник, не считая невостребованного им Кайена, был тот самый старый дом на отшибе.
Безумец, ты решил отправиться туда, в глухомань, где внутри старой халупы, вероятно, все еще догнивали останки брошенного тобою пса. Зачем? Ты рассчитывал найти ответы. Там, где все началось, ты надеялся все прекратить. На худой конец, закрыть счет.
Ты нашел дом спящим под застывшим солнцем, опалявшим двор. И вновь ты ошибся – дом не спал, а замер в ожидании…
Ты осторожно приоткрыл дверь, боясь не вынести зрелища мертвого пса в прихожей, на полу. Медленно вошел, сканируя взглядом каждый сантиметр половиц, скрип которых не следовал твоим шагам, а противоестественно предварял их.
Дом кряхтел, оживал, но пса на полу и вообще нигде больше не наблюдалось. «Возможно, он жив…» «Бес!» - ты окликнул. Тихо. Только дверь за спиной сама собою затворилась. Ты вздрогнул, но не пустился в бегство – как-никак ты приехал узнать ответ у Них.
Ты теряешься за уходящим днем, потемневшими окнами, шорохами и скрипами, вынужденный покориться всепроникающему холоду, сквозящему из незримых щелей. Они приходят незаметно, но ты узнаешь Их по сквозняку. Ветер усиливается, срывая с петель шторы под яростную музыку потустороннего гения. Ты начинаешь понемногу различать слова. Теперь ты слышишь Их, ты слышишь меня…
Стуча зубами, губами синими от холода, ты хрипло произносишь, не разбирая собственного голоса – он тонет в песнопениях, идущих из ледяной бездны:
- Я вас не звал! Зачем вы здесь? Что вам нужно?
- Не звал? Неужели?! – откликается песня, и каждая нота жалит, обжигая льдом твое дрожащее в лихорадке тело. – Ты звал, когда, потакая слабости, не нашел в себе мужества честно объясниться. Назначив свидание, бежал. Ты звал, когда, не нуждаясь в средствах, позарился на наследство женщины, которую сам отверг. Когда ранил собаку, что и не думала нападать, бросил пса умирать, в угоду надуманным страхам, - ты звал!
Ты не чувствуешь конечностей, тело немеет. Сквозняк меняет тебя, сковывая льдом изнутри. Задыхаясь, ты хрипишь:
- Она говорила, я должен открыть Вам двери. Видит бог – я не открывал!
- Ты заблуждаешься! – оглушительным воем трещинами на окнах порывается песня. – Мы – те, кто приходит на зов. Приходим, если отворить двери… Двери, что открывают слабость, жадность и трусость. Ты открыл…
Сложно сказать, в какой момент ты окончательно потерялся: когда в стоне ветра разгадал смысл, одновременно поняв, что смысл есть в чем угодно – только не в тебе… Или, когда посреди сквозняка и комнаты увидел пса…
Он смотрел, как меняешься ты, бездонной чернотой глаз – точь-в-точь таких, как глаза Дины. А всего-то и надо было, что слушать, смотреть и видеть смысл – хоть в чем-то, кроме себя. «Отдала телом…» - теперь ясно, как и кому. Ведь ты никогда не видел хозяйку и пса вместе. И предал дважды. Одни глаза. Один Бес.
Что ж… Ты приехал, чтобы найти ответ. И нашел. Ты приехал рассчитаться. Почти… Будь у тебя силы, ты бы противостоял льду. Будь ты добр и щедр, ты бы дал мне приют. Тебе не достает смелости согреться изнутри. Так ты становишься льдом и таешь с первым лучом солнца южной осени, заглянувшим в окно.
Я вижу талый лед. Лужу… Я пью тебя, потому что давно страдаю от жажды. Пью, не жалея, как могла бы жалеть Дина. Пока не изменилась. Они изменили. Я перестала ею быть с той поры, когда позвала…
10.01.2025 ® Ядвига Симанова
Светлые раны забвения
Светлые раны забвения
Солнце…Нестерпимо лучистое. И ярче солнца – желтый песок. Синее море: почти такое же яркое - до слепоты, как солнце… или песок. Громадный танкер неколебимым грузом врос в берег кормой. Мы слоняемся вдоль побережья, не имея другого дела. Я и он: в летник брюках и тонкой рубашке нараспашку, блеклой, не такой синей, как море, - голубой.Я не помню, кто он такой, кем мне приходится, и стесняюсь ему в этом признаться. Подозреваю, он так же не помнит обо мне. Но что-то подсказывает мне: все это не важно.
- Любопытно, когда ожидается прилив? – наверное, это важно, если вопрос первым слетел с языка.
Он поводил рукой по замершему воздуху, словно отгонял несуществующее насекомое, отвечая:
- Судя по всему, в этих водах их в принципе не бывает.
Я нашла его голос приятным.
- Поднимемся на палубу! – предложила я и прибавила шаг навстречу солнцу… и морю босиком по высушенному песку.
До воды было далеко, но я зачем-то подвернула штанины, оберегая деним от влаги, под застывшем в зените солнцем представляющей угрозу лишь в воображении.
По крутому, ржавому, раскаленному на жаре трапу мы взошли на палубу. Правый и левый борт с внутренней стороны были испещрены письменами на латинице. Сквозь стертую краску с трудом просвечивали буквы, соединяясь в незнакомые мне слова – сплошь одни и те же. Надписи повторялись…
Я не мешала, когда он сосредоточенно вчитывался в каждую, поминутно останавливался, щурясь на корявые буквы.
- «Ad locum ubi numquam hic fuit» – произнес он медленно, мудрено, таинственно…
- Латынь? Тебе известно значение?
- Я… пытаюсь.
Он морщил лоб, много и долго думал, и выговорил наконец, не вполне будучи уверен:
- «Туда, где никогда не тут», - так здесь написано, примерно так…
- Никогда не тут… Что бы это могло значить? Послание? От кого? О чем?
- Весьма символично, - с оттенком иронии заметил он. – Послание на мертвом языке, намертво севший на мель корабль в мертвом море…
Меня одолевало любопытство, и я двинулась вдоль борта по направлению к корме, туда, где размещался капитанский мостик. Его шаги у меня за спиной – я знала: он всегда рядом. В том была естественная неоспоримая константа.
В какой-то момент я засомневалась, стоит ли идти дальше, и он, угадав во мне смятение, опередил меня и решительно перешагнул порог, очутившись на мосту[1]: несмотря на обилие аппаратуры, помещение выглядело довольно просторным. Сразу бросились в глаза бумаги, разложенные на штурманском столе. И…
Я держала его за руку - резко остановившись, до боли в пальцах сжала его ладонь. Несомненно, он видел то же: человека в белой фуражке-бескозырке и флотском костюме, стоящего у штурвала. Весь в белом, подсвеченный яркими лучами, похожий на призрака, на деле – отнюдь им не являлся. Матрос, рулевой, штурман – кем бы он ни был, назовем, «моряк», не двигался, - руки застыли на руле.
Пока мы видели моряка со спины, он представлялся упорным искателем спасения у странных берегов надежды, неусыпно глядящим в даль на корабле, уснувшем в песках, и непременно глухим, раз наша возня на мостике нисколько не всколыхнула его. Боясь потревожить рулевого, а если откровенно, то, скорее, пасуя перед страхом неизвестности, мы осторожно на приличном расстоянии обогнули стойку, очутившись перед лицом моряка.
Чего еще можно было ждать от мертвого судна? Иначе и быть не могло. Таиться не от кого.
- Увы, - произнес он в полный голос, - в этих глазах нет жизни.
- Это что, кукла?
Я смотрела, как он медленно, скрупулезно изучал фигуру моряка. Деликатно потрогал кожу на лице, прощупал ткань одежды, долго всматривался в пустые стеклянные глаза.
- Чучело, - заключил он, тем самым озадачив и неприятно поразив.
Казалось, я сама вот-вот застыну в вечном не-движении на песчаной отмели бледным изваянием посреди желтого песка, если срочно не отвернусь, срочно не сойду с места. Я стремительно отступила назад на несколько шагов и развернулась. Перед глазами возникла отворенная дверь в штурманскую рубку. Без промедления я вошла, о чем тотчас пожалела. Мне захотелось сейчас же руками закрыть лицо. Должно быть, я это сделала, если в дальнейшем наблюдала обстановку сквозь пальцы.
На низком стуле перед погасшем экраном монитора – мужчина прилег на стол, подложив локти под голову, от входа виден его бритый затылок, матрос, как будто спит. Еще одно чучело… И вид его действует угнетающе.
Я, как ошпаренная, выбежала из рубки, позади оставила капитанский мостик, и, миновав нагретую солнцем палубу, спустилась к резервуарам. Он шел за мной, и мы видели одно: тут и там кукольные матросы замерли на своих местах в самозабвенной увлеченности делами, коим не суждено завершиться.
- Как, по-твоему, они когда-нибудь жили? – в отчаянии спросила я.
- Надо думать…Жили… Плыли…
- Куда?
- Кто знает… Но, очевидно, устали плыть. У всех у них как будто разом, по команде сели батарейки.
- А что в резервуарах? Нефть? Мазут?
Из переплетенных, словно артерии, труб повсюду торчали вентили. На цилиндрах, окрашенных в ядовито-красный – шляпки замерных люков. Откинув болт с гайкой, он нажал на педаль закрепленного на люке рычага. Люк открылся, и в нос ударил смрад нечистот. Он поморщился и поспешил захлопнуть крышку, туго завинтив гайку.
- То ли нефть уже не та, то ли эти «мумии» завезли на остров отходы, - он пытался шутить, но выходило за правду. – Интересно, имеется на судне бортовой самописец или аналог оного? Не мешало бы взглянуть.
Мы возвратились на мост, к штурманскому столу, который при первом посещении обошли вниманием (незаслуженно, надо сказать). В ворохе бумаг на столе мы обнаружили навигационные карты. Что примечательно: точки координат, береговые линии, акватории островов на всех картах приблизительно совпадали. При этом, карты были выполнены на всевозможных языках и безусловно в разное время. Да что там! В разные эпохи! Начиная с древних – на пожелтевшем пергаменте, до современных – на картографической бумаге.
- Взгляни! – я указала пальцем на помеченную крестиком точку на старой карте с надписями неизвестными иероглифами. – А теперь посмотри сюда!
Я развернула перед ним белый лист бумаги, где точно так же крестом была отмечена та же местность. Идентичные пометки содержали и другие карты. Неспеша, с дотошностью скептика, он сравнивал географические данные.
– Вот и ответ на вопрос, куда они плыли, - сказал он, когда не осталось и тени сомнения. – Сюда. Это наш остров обозначен крестом.
Я принимала его слова за неоспоримую истину, естественно и непринужденно, как и само его присутствие рядом. Хотя не имелось ни единого объективного основания узнать среди множества островов Океании тот, где находились мы. К тому же, ни одна из карт не давала названия острова. Лишь на единственной старой карте у границы береговой линии значились полустертые микроскопические литеры. Он порылся на столе и нашел лупу. Затем долго, сосредоточенно водил ею над знаками. Стало ясно – литеры сложились в строку, когда он, вчитавшись, схватился руками за голову.
- «Ad locum ubi numquam hic fuit»…
- «Место, где никогда не тут», - кажется так? Место…Оно на острове? – буквальное значение фразы входило в кардинальный диссонанс с моим субъективным чувственным представлением замершего в зените солнца острова. – Ты уверен в точности перевода? Я бы, напротив, назвала это место вечным «здесь». Штиль, неподвижность, забвение. Тотальная статика – от неба до земли.
- Здесь есть над чем поразмыслить. Корабль плыл к месту, где «никогда не тут». Если допустить, что «тут» (здесь) означает нахождение в данных координатах пространства и в данный момент времени, то противоположное «никогда не тут» должно быть там, где нет ни времени, ни пространства. Согласись, такое место сложно себе представить, в особенности касаемо пространства (тогда как время – категория относительная, помыслить что-либо «вне времени» теоретически возможно), то «место» само собою подразумевает наличие некоего пространства, той или иной территории. Остается предположить, что такой территорией «без материи», принимая во внимание материальную основу мироздания, является земля бесплодная, без жизни. В данном контексте, единственное, что приходит на ум: остановка, безвременье (как неизменность оного), неподвижность, смерть – и есть место, где никогда не «тут». Чем не наш остров?
- Капитан выбрал неверный курс, - сказала я, раздумывая над тем, почему со мной и с ним не происходит то же, и тотчас поежилась от мысли, что наше «не тут» мы сами волей своей неуклонно приближаем, потворствуем той самой статике, запечатывая разум в пустых рассуждения о тех, для кого уже ничего не изменить. – Зачем мы вернулись на мост? Бортовой самописец!
Я спохватилась, а он оторвался от карт и остановился возле следующей стойки с приборной панелью. Я проводила взглядом его и… сверкнувший над стойкой огонек. Зажмурилась – снова открыла глаза, - лампочка на приборной панели продолжала мигать. Подсвеченный экран отобразил время: двенадцать часов по полудню. Мы оба ждали одного, и надежды не преминули сбыться: часы прибавили минуту – «12:01» показывало табло.
- Время вернулось! Течет, как ему и положено! – воодушевленно воскликнул он. – Если это место не влияет на нас, вероятно мы своим присутствием способны влиять на него.
Неописуемый восторг, охвативший меня, выливался задорным смехом. Мое настроение немедля отразили судовые приборы, иллюминируя бесчисленными созвездиями лампочек. Мои пальцы нащупали нечто острое – грифель, кончик карандаша, застрявшего между кнопок клавиатуры.
- Знаешь, как мы поступим? – говорила я. Вытащив карандаш, переместилась к штурманскому столу. – Мы нарисуем новые карты! Кораблю нужен новый курс! Вот только… Кто поведет танкер?
- Мы. Больше некому. Встанем у штурвала и отправимся в дальнее плавание.
Только он это сказал, как перед мысленным взором, как наяву, совершенно четко, в мельчайших деталях начал вырисовываться маршрут. Фарватеры, рифы, морские каналы, пути, материки и острова – какие не значились на прежних картах.
Поверх имеющихся карт я разложила чистые листы, которые нашлись в ящиках стола, нетронутым блеском своим утверждая, что только меня и ждали. С маниакальным усердием я принялась за дело. Время от времени смотрела на часы, стремительно прибавлявшие время. Да и без них я замечала, как клонится солнце, смещаясь к западу от зенита, удлиняя тени.
- Все! – удовлетворенно выдохнула я, начертав линию последней из меридианов.
- Осталось еще дело, - произнес он, встретив мой вопросительный взгляд. – Надо бы выкачать из резервуаров грязную воду. К отплытию они должны быть пусты и чисты. За время пути мы наполним их свежей прозрачной водой.
- Хорошо, - ответила я и зевнула.
Веки сами закрылись, сморила усталость, наступил сон. Он не будил меня. Он видел, как с настигшей меня дремотой одни лампочки медленно угасали, и тут же пробуждались другие – нерабочие до той поры. Пока я спала, он очистил танки, слив грязь в пустые цистерны, оставив последние на берегу.
А мой сон, меж тем, вовсе не был сладостен и крепок. Я пробудилась от собственного крика, и как ни старалась, не могла вспомнить, что послужило причиной.
- У меня нехорошее предчувствие, дурной сон, - сказала я, не сводя глаз с экрана радара: из центральной его части рваными штрихами пробивались световые лучи. Этакий световой фонтан мало-помалу наращивал интенсивность, помехи увеличивались, разрастаясь к краям экрана. – Что означает такая активность?
Он развернулся и вышел на палубу, подставив лицо знойным лучам нового дня. Я встала за ним и, щурясь на голубые кристаллы неба, увидала желтый диск, а на линии с ним – луну. Солнце и луна, вместе, посреди ясного утреннего неба – друг за другом видны и друг другу не противоречат.
- Мы изменили это место. Земля движется. Приливная сила луны возмущает океан. Надо думать, радар сообщает о приближении волн.
Мои волосы трепал ветер, кожа чувствовала его касание, - незнакомо, словно впервые. И влажная прохлада, и воздух, пропитанный солью - все грани единого движения, которое «причиняло» мне истинное счастье – ведь я (мы) своим присутствием сумели вдохнуть в мертвое жизнь и, как есть, «причинили» его.
- Все приборы исправны и точны, на судне новые карты, резервуары чисты и свободны. А значит, разум готов исследовать и открывать; ему некогда будет скучать, когда в избытке идеи и цели, а чувства ясны и свободны для новых мечтаний, желаний, новой любви. Почему же «куклы» не просыпаются? Чего не достает им для движения? Прилива?
- Да… - задумчиво проговорил он. – Тело всегда в последнюю очередь откликается на перемены. Покуда не накроют волны…
Вдогонку его словам, океан отвечал, набирая силу, кратно усиливая волнение. Мы неотрывно смотрели, как приближалась вода, заглатывая песок с каждым ударом о берег, и, отступая, с грохотом выплевывала белую пену. И вот уже волны штурмовали судно, отчаянно бились о борт, а мы продолжали наблюдать.
Как вдруг периферийное зрение уловило у ног чье-то быстрое, чуть заметное движение. Я посмотрела вниз: какая неожиданная мерзость! Из-под настила палубы вынырнула большая серая крыса с несоразмерно длинным туловищем! Будь на мне обувь, я бы задавила ее каблуком, но справедливо опасаясь за свои босые ноги, я только и смогла, что вскрикнуть и прижаться к борту. Впрочем, крысу явно не интересовали мои пятки – у нее имелись другие планы. Крыса убежала быстрее, чем он поднял ботинок, с запоздалым намерением обезвредить паразита.
- Недоглядели, - расстроенно произнесла я. – Грызуны испортят все плавание.
И словно подтверждая мои неутешительные мысли о том, что сбежавшая тварь на судне не одна, из-под настила ловко выскочила другая и, точно насмехаясь, шустро вильнула хвостом, перекувыркнулась на месте и проворно юркнула в щель, скрывшись следом за первой.
Спустя секунду огромная волна перевалила за борт, промочив насквозь всю нашу одежду. Поскользнувшись на влажном полу, я упала. И думала, что с криком, но… кричала не я: кто-то далеко на борту упредил мой голос.
Он помог мне подняться, и вместе мы побежали на звук. Кричала женщина в одной из кают. Да! Вчерашняя «кукла» кричала, завидев крысу! Хорошо ли – плохо, но в нашей помощи здесь не нуждались. Женщину успокаивали окружившие ее матросы, как и она, разбуженные захлестнувшими корабль волнами, а может быть… крысой…, - мы не знали наверняка. Что мы знали достоверно и точно – нас никто не замечал. И это мне казалось естественным, как и то, что спутник мой всегда рядом.
Все мысли мои были заняты тем, что важно. Крысы! Которые исчезли, спрятались. Которые портят все. Такие новые карты, добротная аппаратура, чистые танки… Крысы непременно сжуют бумагу, обгрызут проводку, нагадят, где только можно, - повсюду оставят свои пакостные следы. Удрученная, я шла на мост, чтобы, наконец, извлечь память бортового самописца. И тотчас пресловутая крыса прошмыгнула рядом по влажной палубе, путая мои шаги.
- Неужели мы, могущественные настолько, чтобы «причинить» жизнь, не в состоянии избавить корабль от мелких вредителей?
- Чему удивляться…? Мы привнесли в это место жизнь. А жизнь, порой, бывает разная. И такая, в том числе, - ответил он, следуя взглядом за ускользающей под настилом крысой.
А волны продолжали сильнее раскачивать судно, разгоняли скорость события, да так, что у меня не хватало времени хоть сколько-нибудь обдумать услышанное. Давешняя крыса покинула свое укрытие и во всю прыть бежала нам навстречу, за нею тотчас обозначился виновник ее поспешного бегства. Прожигая жертву желтыми факельными глазами, выпустив когти, по палубе несся рыжий кот: молодой, должно быть, еще котенок. Даже при мимолетном взгляде на него стало ясно: участь крысы предрешена. В мгновение ока котенок настиг жертву, и, без доли стеснения, совсем не по-детски, а как-то подчеркнуто по-будничному, выверенно зубами переломил ее длиннющий хребет.
Зрелище малопривлекательное, но от того упокоилась смута в моей голове. Пока кот на судне, ни одна крыса не прошмыгнет на борт, а если каким особым случаем и проскочит – будет кому с ней разобраться.
Продолжив путь под ударами волн, мы кое-как добрались до моста, где к компании улыбчивых, ставших уже привычными лампочек и мерцающих экранов прибавился сам капитан: высокий, в белой фуражке с козырьком, и штурман, что очнулся ото сна и уже вовсю корпел над начертанными мною навигационными картами.
И снова нас никто не замечал в упор. И снова это обстоятельство не представлялось чем-то противоестественным.
- Вот то, что мы искали, - сказал он, склонившись над приборной доской со встроенным небольшим контейнером, подписанным строкой: «Voyage data recorder – do not open – report to authorities[2]». – Регистратор данных рейса. Остается прочесть данные.
Игнорируя предостережение, он вскрыл контейнер и извлек оттуда носитель – фиксированное устройство регистрации. Рядом нашелся и провод с подходящим разъемом, и «гнездо» – под одним из немногих пока дремавших экранов.
Я торопила его – вода прибывала, и судно готовилось оставить надоевший берег. Мы могли не успеть прочесть, если бы у кого-то из команды возникла необходимость воспользоваться теми же приборами. Но команда, как нарочно, будто избегала встречи с нами; матросы находились на палубе, каждый был занят своим делом, и никому не было дела до нас. Но как только на экране появилось изображение, для меня самой и команда, и танкер, и даже до крайности возмущенный океан, - все в-одночасье перестало существовать.
… Все, кроме памяти, запечатанной под цифровым замком в гробнице черного ящика и теперь наглядно распакованной передо мной и им. Нашей памяти…Это не кадры на экране бортового монитора чередовались друг с другом, не динамики воспроизводили записи чьих-то речей, – это я и он вспоминали жизнь за жизнью сквозь годы, столетия, с давно забытых времен, узнавая себя в мужчинах и женщинах, в каждом плывшим на корабле, в каждом из лиц.
Волна, с новой силой ударив о борт, вывела меня из оцепенения. Поскальзываясь на каждом шагу, я переместилась на палубу, чтобы обновить поистертую надпись, выведенную моей же рукой столетия назад на забытом мною языке: «Ad locum ubi numquam hic fuit». «Туда, где никогда не тут». И уж коль скоро я упомянула язык, позволю себе уточнить: Латынь не мертва. Она осталась там, где никогда не тут, - свободная от пут времени, безвременна и вечна, - пускай, по его мнению, все суть одного и того же.
Вода, тем временем, окончательно размыла песок, высвободив из плена корму. Корабль отплывал. Темнело небо, сливаясь с океаном в единых красках. Смешались ночь и день. Из хаоса рождалась новая заря и новый путь.
Разъяренные волны прогоняли корабль дальше от берега. Не выдержав качки, я дрогнула рукой на последней букве – упала и, не успев толком подняться, снова утратила равновесие, повалившись обратно на пол.
И именно в ту секунду угораздило того самого желтоглазого голодного кота попасться мне на глаза. Он был до смерти перепуган: уши назад, шерсть взъерошена; в панике метался по палубе, не находя места. Вдруг тоненьким голоском мяукнул и перемахнул за борт – прямо в бурлящую пену волн!
До боли страшно сделалось мне за кота, я непременно должна была его спасти! То и дело падая, пробежала по палубе в поисках трапа, по которому когда-то взошла на борт. Теперь ступени были наполовину в воде. Я спрыгнула вниз и вплавь достигла берега, растянувшись на влажном песке. Но где же бедный котенок? Ни кота, ни следов на берегу. Пустота… Только он, прыгнувший за мной следом – иначе и быть не могло.
Я и он…Снова одни на берегу. Смотрели вслед удаляющемуся танкеру. Еще раньше мы заметили с суши, как над бортом мелькнул рыжий хвост. Поздно я раскусила обман, но не гневалась, потому как понимала...
- Кот – проводник, - сказала я то, что держала на уме. – Он делал, что должно – указал путь нам. А мы – им. Мы никогда не поплывем на танкере, верно?
- Верно, - отвечал он. – Мы не созданы, чтобы вести корабль. Мы здесь за тем, чтобы рисовать карты. Ведь мы знали, что следует делать еще до того, как вернули память.
- Мы никогда больше их не увидим? – спросила я, со щемящим сердцем провожая уплывающие за горизонт точки: белые шапочки матросов.
- Отчего же? Они будут приплывать сюда снова и снова. Не ты ли сама подсказала им путь? К месту, где никогда не бывает «здесь». Только «здесь» - отнюдь не место на карте, как я считал раньше. «Здесь» бывает в любой точке Земли, точнее, везде, где есть ты – человек, с тянущим ко дну грузом съедающих разум мыслей, захлебывающихся от ила и нечистот чувств, расстроенным мозгом, уставшим решать сложные уравнения, не постигая смысла самых простых, и вездесущей стаей крыс, превращающих трюмы с добром в мусор, все живое – в заразную гниль. Они, уставшие сами от себя, от себя и плывут. туда, где их не будет, слепо доверяя незнамо кем нацарапанной надписи на борту. Не понимая простой вещи: то, что они полагают «собой» - переполненные застоялой грязью резервуары чувств, подкинутые кем-то навигационные карты с чужими ориентирами, спутанные сигналы радаров, лживые мониторы, транслирующие надоевшие мысли, - все они вечно возят с собой, куда бы не плыл танкер. Значит путь корабля обречен, и они неизбежно оказываются здесь, чтобы кто-то другой (вроде нас с тобою) очистил для них резервуары, начертил им новые карты, вдохнул в мертвые тела жизнь…
- Возвращаются с тем, чтобы вернуть нам память, - завершила я его мысль, впервые посмотрев ему прямо в лицо (в самом деле, мы так редко делаем это – смотрим друг на друга, выдавая за нынешний образ искажение - слепок памяти прошлых лет) – лицо, которого не было…
Внезапно прояснилось небо, и в отворенном солнцем оконце я уронила взгляд на воду. Где должна была видеть себя. Но меня, как и его, не было…
Мы, глядящие на мир через миллионы лиц, странники в океане, мы, плывущие на корабле туда, где никогда не тут… Нам, везущим ценный груз бед и ошибок, так тяжело и больно возвращаться к себе в боязни лишиться тех тяжестей и боли, которые мы понапрасну чтим «собой». Скитаемся по волнам неизбежности, покуда корабль не сядет на мель, не увязнет в песках, придавленный мертвым грузом, не заглохнут изношенные двигатели под недвижным солнцем и тихим, как смерть, океаном, а на выцветших сердцах не зарубцуются светлые раны забвения.
11.02.2025
® Ядвига Симанова
[1] Здесь и далее по тексту имеется ввиду капитанский мостик: помещение судна (корабля), где находятся все необходимые приборы и устройства для управления судном (кораблем).
[2] Регистратор данных рейса – не открывать – обратитесь к властям (англ.)
Маска
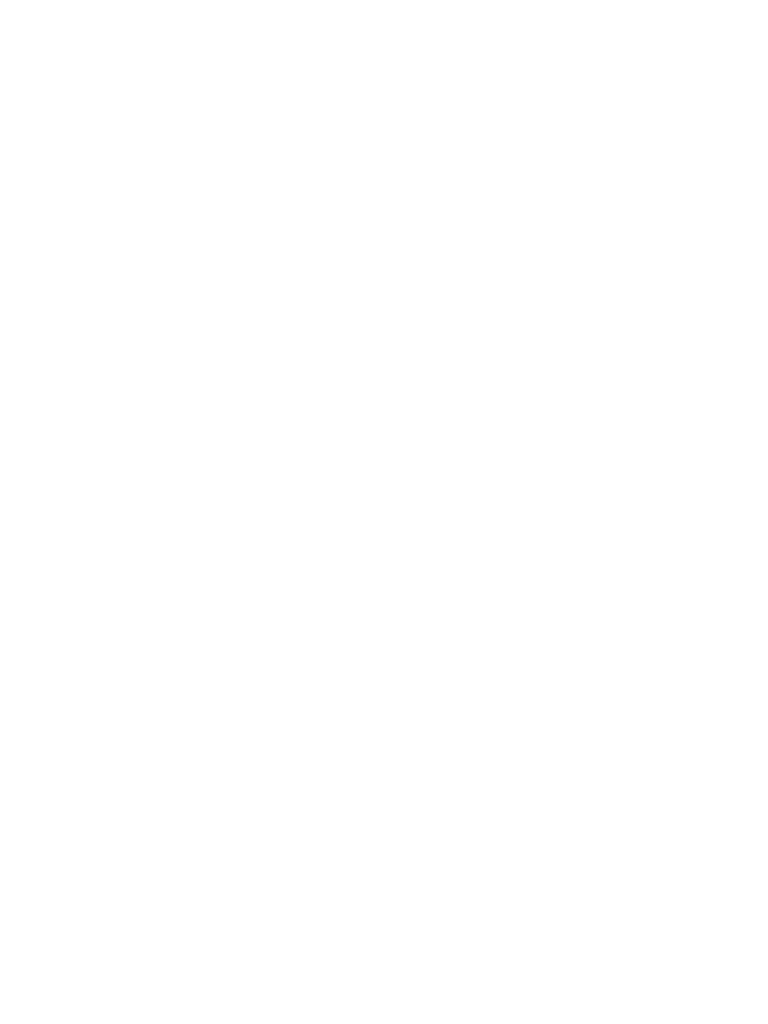
Художник Валентина Симонова
Под рокот ливня пела женщина низким голосом на незнакомом языке. В ее неистовую песнь то и дело врывались удары тамтамов, словно вели с певуньей войну – кто скорее утихнет, но не умолкали ни они, ни она, - никто не желал сдаваться в этой очумелой схватке, и бой продолжался, и боем являлась песнь.
Лена сдернула с лица маску, и наваждение исчезло. Лена вытерла со лба пот и посмотрела по сторонам, поддавшись иррациональному страху застать следы удушливой влаги тропической ночи в стенах городской квартиры. Женщина больше не пела, не гремели тамтамы, струи ливня не срывались с небес, но сердце Лены, точно пойманное в ловушку ритмом, заданным чужеземной музыкой, все еще продолжало отстукивать удары, повинуясь невидимому дирижеру призрачного оркестра.Что за странное видение? Ничего подобного Лена раньше за собой не замечала. На диване лежала брошенная маска из черного дерева: узкое вытянутое лицо с широкими ноздрями, разукрашенное невпопад, как будто случайно брызгами фонтана ярко-красных, зеленых и золотистых красок. На редкость неудачный подарок, привезенный мужем из Африки. Неудачный, неправильный, как и сама идея Дениса отправиться в путешествие без супруги.
Те две недели, что он отсутствовал, Лену грызли сомнения. Она закрывала глаза, переключала внимание и слух, сознательно отгораживаясь от очевидных знаков – свидетельств неуклонно приближавшегося циклона, готового вот-вот обрушиться цунами на их тихую семейную гавань. Но все усилия, предпринимаемый Леной не делали ее слепой и глухой, и надвигавшаяся буря давала знать о себе непрекращающимися уколами нет-нет, да всплывавших в уме воспоминаний об участившихся отлучках мужа, его постоянно бегающих глазках, его смартфоне, на котором по странному совпадению, словно прячась от случайного взгляда Лены, гас экран. В довершении ко всему – эта спонтанная поездка вглубь африканского континента на какой-то импровизированный корпоратив, ни с того ни с сего организованный начальством для избранных сотрудников с одним условием: без жен. Все бы ничего, и версия могла бы сойти за вполне пригодную, если бы Денис занимал должность хотя бы менеджера среднего звена в какой-нибудь перспективной компании, а не просиживал кладовщиком на старом областном колбасном заводе.
Не будучи глупой, но будучи терпеливой, Лена морщилась, кривилась, но насилу ела это тухлое, дурно пахнущее вранье, вытесняя сомнения в тень. Но тени с каждым днем помимо ее воли становились все плотнее, кружились, смыкались, обретая все более явные контуры, пока, наконец, не соединились в стройный, четко очерченный, к несчастью, узнаваемый женский силуэт. В самом деле: кто еще мог угрожать ее семейному счастью? Муж-кладовщик, тугой на подъем, не слыл искателем приключений, и вряд ли соблазнился бы кем-то далеким. В отсутствии иных предположений, Лене повсюду мерещились кошачьи глаза Анны – ее недавно разведенной подруги, которую она самолично по доброте и простоте душевной взялась утешать, приглашая в дом в любое угодное бедняжке время, и Анна с благодарностью принимала участие, впоследствии не только от хозяйки дома, но и от хозяина, Дениса, который на удивление скоро и искренне проникся ее горем.
Между тем, возвращение Дениса из-за границы близилось. Лена мурашками ощущала холод и натиск приближавшейся бури. Уже готовилась, принимала худшее за данность, даже ждала, что откроет дверь и увидит Дениса под руку с Анной, и, в результате, оказалась в крайнем замешательстве, когда с поворотом ключа на пороге появился Денис… в совершенном одиночестве. Разве что, помимо старого чемодана компанию ему составлял какой-то бумажный сверток. С улыбкой на лице Денис протянул сверток жене.
- Гляди! Какой сувенир я тебе привез! Аутентичненько?
Поначалу потеплев сердцем в надежде на то, что мучавшие ее подозрения беспочвенны, Лена развернула сверток. От неожиданности - будь у нее слабое сердце – она бы, наверное, испытала удар, когда вместо приятной глазу безделушки ей пришлось узреть неестественно удлиненное лицо, отягощенное леденящей душу таинственной трагичностью, одеревенелое в выражении полной отрешенности, отчего похожее на чей-то посмертный слепок, отталкивающий и жуткий.
- Это - маска? Странновата… Жутковата… - говорила Лена, проводя руками по деревянной поверхности, которой давно полагалось потеплеть под ее ладонями, однако, вещь, привезенная из жаркой страны, продолжала отдавать неведомо где запасенный холод.
- Забавная вещица, как по мне! Но…если тебе не нравится, передарю кому-нибудь.
Денис вознамерился взять дареное назад – протянул к маске руку, но Лена неожиданно резко и решительно прижала подарок к груди.
- Нет-нет, нравится. Просто… - она долго выбирала подходящее слово, но так и не отыскав в активах ментального словаря достоверно отражающее смысл, обошлась тем, что было: оригинальный, диковинный сувенир, надо привыкнуть. Само собой, я оставлю маску себе.
Так маска осталась с Леной, чего нельзя сказать о ее супруге. Не прошло и недели, как он собрал вещи и ушел, не утруждая себя объяснениями, ограничившись слизанной с сопливых мелодрам формулировкой: «Давай поживем отдельно! Мне нужно разобраться в себе». Как правило, в дешевых мелодрамах герой после такой фразы уходил «разбираться в себе» отнюдь не в одиночестве. Денис, следуя тому же шаблону, не стал исключением. Нашлись «добрые люди», кто с азартным блеском в глазах, сочась желчью показной уничижительной жалости, доносил Лене, что встречал на днях ее благоверного там-то и там-то в обществе некой блондинки, из описания которой легко узнавалась Анна.
Хуже то, что с Анной ей приходилось сталкиваться ежедневно. Подруги (ныне бывшие) работали вместе в одной торговой компании: Лена – бухгалтером, Анна – секретарем. И Лена, вопреки всякой логике, стыдилась и опускала глаза при встрече с разлучницей, как будто сама была виновата перед ней за ее же предательство. Она пыталась найти этой странности объяснение, но ничего путного в голову не приходило. Вместо гнева, естественного желания выцарапать сопернице глаза – слезы отчаяния, скрываемые под опущенными веками и взглядом в пол, да желание совсем иное – провалиться под землю.
Лена стала замечать, что ходит по офису, подволакивая ноги, будто на ногах у нее не туфли, а кандалы. В один день она еле доковыляла до дома, сопровождаемая думами о том, как ежедневные пытки работой рядом с ненавистной Анной вытягивают из нее все жилы. «Так больше продолжаться не может…» - подумала Лена и, не раздевшись, плюхнулась на диван. Лежа, подняла глаза: с голой стены на нее безразлично глядела маска – сомнительный подарок, утешительный приз, напоминание о неудачном браке и предательстве.
Сувенир из Африки успел превратиться для нее в своеобразный фетиш, неизменный атрибут ежевечернего ритуала. У Лены вошло в привычку снимать маску со стены и говорить с ней, изливая пустым всеприемлющим, как царство Аида, глазницам обиду на мужа, бывшую подругу и нескончаемые жалобы на несчастную судьбу. Под конец такой ритуальной беседы Лену одолевало желание выкинуть маску к чертям, чтоб не болеть заново, с каждым вечером умножая боль, а покончить с нею разом, убив воспоминание. С маской в руках Лена подходила к мусорному ведру, да тотчас разворачивалась, не решаясь разжать пальцы; открывала окно с намерением выбросить маску на улицу, но не поднималась рука. Не так-то просто вырвать кусок из сердца – даже насквозь пропитанный ядом он создает целостность или весьма правдоподобную иллюзию таковой. Маска всегда возвращалась на стену, а Лена оставила попытки избавиться от нее.
Тем вечером она решила изменить привычке беседовать с маской. Сняв со стены, надела маску себе на лицо. Резкий горьковатый запах нездешних трав просочился через ноздри вместе с едким дымом. Лена чихнула – маска упала с лица. «Должно быть, изделие пропитано какими-то специфическими благовониями из композиций растений тропиков, - подумала Лена. – И как только я не учуяла раньше…» Лена поднесла сувенир к носу, стараясь распознать запах, но, вопреки ожиданию, вещица не сохранила ни единой нотки прежнего бьющего в нос аромата. Экзотический флер топиков улетучился как не бывало.
Решив продолжить эксперимент, Лена вновь надела маску – и вся квинтэссенция тяжелых, дурманящих разум глубиной и терпкостью ароматов снова заполнила пространство, едва тонкая пластина черного дерева соприкоснулась с кожей лица. Теперь ее обоняние различило мягкие оттенки мускуса в дымчатых струях древесно-землистого ветивера и бальзамический горьковатый шлейф мирры, увлекающий на глубину океана, как спасение от чужеземного зноя.
Вдоволь «наигравшись» с африканским сувениром, Лена легла спать, а наутро проснулась совершенно разбитая, как бывает с тяжелого похмелья. За окнами плакал дождь, размазывая слезы по стеклу, уныло барабанил по карнизу. От монотонных стуков сильнее гудела голова - в беспросветных сумерках осеннего утра в ней не находилось места для других мыслей, кроме как… повеситься.
Гигантских усилий стоило Лене встать с кровати и добраться до уборной, где предательское зеркало без жалости и ретуши будто выворачивало наизнанку, материализуя в наглядной и неприглядной форме то, что ощущалось внутри. Словно прошедшая ночь вырвала из жизни как минимум тройку, а то и больше лет. Лена узнавала в зеркале себя: да, это определенно была она… Она… Всматриваясь в отражение, Лена, точно глядела в будущее и видела себя… спустя годы – не лучшие, надо полагать: потухший взгляд, заметные морщины между бровями, опустившиеся уголки рта, бесцветные губы…
В смятении и расстроенных чувствах Лена еле нашла в себе силы собраться и добрести до работы, где каждый второй не преминул поинтересоваться, все ли с ней в порядке, не заболела ли она. Бедняжка, стиснув зубы, сдерживала крик отчаяния и едва дотянула до вечера, чтобы сбежать от участливых взглядов домой, где, забравшись с ногами на диван, решительно сдернуть со стены маску, уткнуться лицом, спрятаться за ней, раствориться в дыму нагнетаемых ее чарами смолянистых древесных ароматов…
Тогда впервые она услыхала дождь: нездешний – теплый, льющий стеной на дымящую от жара землю, и тамтамы, аккомпанирующие завораживающему низкому тембру чужеземной певуньи.
Мир африканской ночи настолько поглотил внимание Лены, что она уже не воспринимала маску как символ страданий, причиненных предательством мужа. Незаметно, от вечера к вечеру выдаивая ресурсы ее времени, маска сменила статус, став проводником в неведомый, далекий и в то же время пугающий аномальной близостью мир. В том мире Лена была чужестранкой, а певунья – его незримой хозяйкой.
Незримой…до поры… Вскоре обладательница низкого, завораживающего глубиной голоса проявилась из плена теней. Дикий костер, полыхавший в глуши тропического леса, вырвал из теми обнаженные плечи негритянки, ее немолодое лицо, отливающие серебристым пеплом пряди, что выбивались из-под ярко-красного тюрбана, да ожерелье из звериных зубов и костей на длинной морщинистой шее. Лену обуял страх от одной мысли столкнуться с негритянкой взглядом, стать видимой для нее, наивно полагая, то до того момента она остается незримым наблюдателем, о котором знать не знают ни дикая африканская ночь, ни ее обитатели. Лена спешно сняла маску.
И снова сумерки за окном. Утро ли? Вечер? Она совершенно потерялась во времени. Взглянув на часы, поняла, что прослушала сигнал будильника, хотя на ее памяти и не засыпала вовсе. Но это известие нисколько не сподвигло ее собраться и бежать на работу. Сил хватило лишь на то, чтобы дойти до кровати и уснуть мертвым сном – ведь за прошедшую ночь она и в самом деле не сомкнула глаз, пропадая в дебрях африканских лесов.
Пока Лена спала, ее телефон надрывался от звонков. Немудрено – коллектив дружно недоумевал: отчего неизменно пунктуальная сотрудница безо всякого предупреждения вдруг не вышла на работу? В конце концов, спросонья Лена ответила, но лишь за тем, чтобы, сказавшись больной, прекратить досаждающую череду звонков.
Что ж, устроила себе незапланированный выходной. И нету повода для беспокойства, да и давно пора было передохнуть. Но где-то в промежутке между сном и явью краешком сознания она выхватила нечто наталкивающее на тревожные мысли. Лена напрягла память, вернувшись к тому моменту, когда, услыхав звонок, потянулась за телефоном. Что могла она видеть? Ее как кипятком обожгло. Руку! Она тотчас перевела взгляд на кисть руки – смотрела и не верила, не хотела верить: ее гладкая, по обыкновению ухоженная кожа выглядела сморщенной, какой-то высушенной, выпитой.
Лена уже догадывалась, что не стоит ждать хорошего от зеркала, но все же подошла. Да, бесспорно сейчас она переживала не лучшие времена, что не могло не сказаться на внешности. Но перемена была столь разительной, что ни один кризис, ни одна, пускай, затяжная депрессия не объясняли и не извиняли настолько скорой и чудовищной деградации облика женщины в расцвете лет. Откуда взялись обвислые щеки вместо тугого овала, складки на шее, морщины в несметном количестве? А седина, на которую сутки назад и намека не было?
Ситуация явно требовала вмешательства специалиста. Оформить липовый больничный не составило труда, и Лена, не теряя времени, тем же днем наведалась к косметологу. Лена и Виолетта, эстетических дел мастер, приятельствовали, что позволяло той высказаться без обиняков:
- Ну и лицо! Ужасть! Сколько мы не виделись? Месяц с хвостиком? Когда ты успела так скукожиться?!
- Ты лучше скажи: это можно как-то исправить? – спросила Лена, успев пожалеть о том, что пришла.
Сносить беззастенчивый профессиональный взгляд, скрупулезно проедающий вниманием все обвислости и трещины на ее лице было настоящей мукой.
- Я… попытаюсь… - протяжно говорила мастер. Ее пальцы в латексных перчатках бойко и деловито перемещались по лицу Лены. – Тебя как будто выкачали изнутри. По-хорошему, тебе не помешало бы сдать анализы.
Виолетта распечатала длинный список маркеров, на которые Лене следовало проверить кровь, и отложила процедуру до получения результатов. Сдав кровь на анализ в ближайшей лаборатории, Лена возвратилась домой. Прошла мимо зеркала, сторонясь отражения как чумного. Сию же минуту глаза остановились на маске. Та, будто нарочно потакая ее желанию спрятать подурневшее лицо от всех и от себя самой, в частности, примагничивала внимание.
И вот Лена уже вдыхала ароматы древесных смол, дым от костра, неубиваемого ливнем, и слушала, как пронзительно голосила темнокожая певунья под неистовый, жаркий бой тамтамов. Лена очарованно смотрела, как танцует негритянка босиком близко-близко к искрящему пламени – едва ли не на раскаленных углях, как без устали умело, четко держит ритм, как синим блеском сияют ее черные кудри из-под тюрбана, и как сама молодость тенями пляшет на ее лице.
«Краденая молодость, - голос рассудка прошептал где-то вдалеке за спиной. – Не у тебя ли краденая?». Именно эта внезапная шокирующая догадка заставила Лену забыть страх и выступить из тени лиан к ночному костру. И теплые слезы африканского неба ощутила она на своих щеках, когда замерла песнь, и африканка, нисколько не удивившись явлению европейской гостьи в ночи, пронзила ее острым взглядом из-под смоляных ресниц и рассмеялась, обнажив ровные, удивительно белые зубы. Не столько смех обескуражил и обезоружил Лену, сколько эти раздражающе белоснежные зубы как издевка и в то же время, знак, подсказка, чего дальше следует ожидать.
Сдернув маску, Лена в панике бросилась к зеркалу, приоткрыла рот – так и есть: на зубах пожелтела эмаль, оба ряда имели нездоровый потасканный вид, не говоря уже о пятнах кариеса.
В холодном поту, не теряя ни секунды, Лена вывалилась из дома. Бежала в ночи, отринув всякий стыд, бежала к самому источнику боли, который на мериле ее ценностей как-то вдруг потерял в весе, утратив над ней всякую власть. «Плевать на них! - твердила себе Лена, сбивая кулаки о входную дверь квартиры Анны. – Плевать, что думают! В сравнении с тем, что происходит со мной сейчас, и он, и она так низки и мелки». Дверь отпер Денис. Он будто бы не понял, кто перед ним – настолько был потрясен. Не то незваным визитом бывшей супруги, не то ее изменившимся обликом.
- Лена?... Как ты здесь? Ты… больна? Что с тобой?
Пока Денис лепетал, Лена протолкнулась в прихожую, захлопнув за собой дверь, и с жаром набросилась на него:
- Маска, которую ты привез из Африки. Откуда она взялась? Кто тебе ее продал? Где именно?
К тому времени подоспела и разлучница.
- Что ты себе позволяешь, психичка?! – завопила Анна, встав, однако на безопасном расстоянии, видимо, опасаясь попасть под горячую руку.
- Все нормально, - спешил успокоить ее Денис. – Я все решу. – И обратился уже к Лене: - Ты сбавь обороты! Не пойму, при чем тут маска, но, если настаиваешь, я расскажу.
Лена ослабила хватку, приготовилась слушать.
Выдохнув, Денис нахмурился и принялся вспоминать:
- Дело было на одном из местных рынков. Помню, прогуливался вдоль рядов с сувенирами, присматривал тебе подарок. В сутолоке меня кто-то задел по плечу. Я обернулся и увидел женщину – негритянку. Она говорила что-то на своем наречии. Я по-английски ответил, что не понимаю и собрался идти дальше, но торговец с соседнего прилавка ни с того ни с сего взялся переводить: «Она говорит, у нее есть то, что вам подойдет». Из плетеной сумки женщина вытащила маску. Я протянул ладонь, чтобы поближе рассмотреть вещь, но женщина, не выпуская маску из рук, заговорила вновь, беззастенчиво и по-особенному требовательно устремив на меня вопросительный взгляд. «Она спрашивает про вашу жену, - пояснил «переводчик». – Ваша жена молода и красива?» Я кивнул. Женщина тут же с широкой улыбой протянула мне маску. Толком не успев осмотреться на рынке, я хотел поискать другие сувениры, сказал, что вернусь к ней позже. Но негритянка в возмущении подняла вверх руки, всем видом демонстрируя, что не примет товар назад, хотя… - Денис стыдливо опустил глаза. – В-общем, я решил, что маска будет подходящим подарком…
- Ты не заплатил! Я угадала? – Лена горько усмехнулась, не скрывая презрения. – Скупердяй!
Картина складывалась ясная и ей больше нечего было делать в чужом доме с чужими близкими.
- Последний вопрос, - Лена задержалась в дверях. – Как выглядела женщина, что продала, вернее, впарила тебе маску?
- Как? – Денис закатил глаза, почесав затылок. – Да обыкновенно. Негритянка как негритянка. Темнокожая, старая, седая уже. Полуголая, - они все так ходят. Из примет разве что на шее жуткое ожерелье из костей.
Лена ушла, хлопнув дверью, оставив пару в недоумении. Дело выходило ясное. Ей раньше приходилось слышать о перекладах, крадниках. Но кто принимает эти россказни всерьез, будучи в здравом уме?
Тысячелетиями люди покоряли природу. И не в последнюю очередь – из страха перед ее могуществом … и магией – ее неотделимой и необъяснимой частью. Технологический рационализм заместил иррациональное, а заодно, этаким побочным эффектом выдавил из человека его природу, его силу, его магию. Человек решил, что обрел власть над природой. Но это иллюзия. Благодаря техническому прогрессу он получил власть над механизмами, из коих выстроил искусственный, иллюзорный мир, отгородив его от первозданного, по-прежнему полного магии и чудес. Отгородил, но не победил! И когда частицы этого якобы мифического мира вдруг проникают сквозь случайные бреши в полотне «реальности», лишь тогда человек в полной мере осознает беспомощность и хрупкость сотворенного им мира перед древней могущественной непокоренной силой, частицу которой он добровольно извлек из себя, ампутировал, выменяв на «благоустройство и цивилизованность».
И Лена с предельной ясностью вдруг наперед осознала безрезультатность каких бы то ни было пилингов, уколов красоты и прочих процедур по приведению себя в порядок, – все равно что делать косметический ремонт в обветшалом до основания домишке, клеить обои на треснутую штукатурку. Дешево и непрактично. Пришедшие из лаборатории на электронную почту результаты анализов лишь подтвердили мрачные опасения: в пробе выявлены отклонения от референсных значений по большинству показателей.
Понимая, что перед источником ее бед традиционная медицина бессильна, Лена не спешила бежать к врачам. Магическое воздействие по ее логике требовало магического вмешательства. Не обладая связями в оккультной среде, через популярный эзотерический интернет-ресурс обратилась к одной из так называемых ведьм. Не откладывая, записалась к ней на прием. Захватив с собой маску, отправилась по назначенному адресу в отдаленный район Москвы.
Ведьма принимала в тесной комнатке в коммуналке – соседние, судя по переменно доносящимся звукам бытовой брани, звону кастрюль и детскому визгу, который усугублял состояние Лены, агонизируя в ее воспаленном уме восхождением до убийственных для слуха частот, занимала многодетная семья, и беседовать приходилось, усилием воли преодолевая эту многослойную шумовую завесу.
Сама же комната для ведьминых приемов благоухала ладаном, расточительно испускаемым курительницами, не только антуража ради, а вернее всего, чтобы перебить захватнический дух борща, нагло прущий из соседних помещений.
Ведьма, женщина средних лет, в очочках, «бабушкином» свитере – ее заурядная внешность, больше подходящая работнице МФЦ, вносила некоторый скепсис и, в то же время, располагала, транслируя словами невыразимое: «Здесь все привычно, все без обмана».
И вправду, Лене повезло – на редкость честная попалась ведьма. Поводив тонкой свечой над лежащей на ритуальном столике маской, отвернулась, выдохнула резко, с силой, будто намеревалась вытолкнуть вместе с воздухом все легкие, и велела Лене убрать вещь с глаз долой.
- Обманывать не стану. Не помогу я тебе. Прости. Делал мастер, грамотный, сильнее всех известных мне. Работу закрепил, защитил.
- Что же мне делать? Неужели нет способа?! – в отчаянии Лена едва не рыдала. – Что если маску выбросить? Или… как это принято? Сжечь? Прикопать?
- Понимаешь, маска связывает тебя и ту африканскую колдунью. Нынешний функционал вещи – связь. Уничтожив вещь, ты разорвешь связь, но не уничтожишь колдовство. Программа запущена. Процесс необратим.
- Так значит, ничего не поделать?
- Не думаю. Никому не под силу снять, - каждым словом ведьма глубже вбивала кол в сердце Лены.
Ведьма не взяла с бедняжки денег, но от этого не становилось легче. В тоннеле подземки Лену вывел из оцепенения мелькнувший на экране телефона значок – уведомление о новом сообщении. Писала ведьма: «Запомни: связь в обе стороны. Влияние тоже с обеих сторон». «И что это мне дает? – Лена разочарованно выключила экран. – Я и так знаю, что связь в обе стороны – а толку? Сколько раз я наблюдала негритянку, как ворует она мою молодость, но чем я могла ей помешать?»
Смирившись с жертвенной участью, Лена вскоре перестала выходить из квартиры, где завесила все зеркала. С тех пор, как она выяснила происхождение подаренного скупердяем – бывшим сувенира, она не надевала маску. И не утилизировала, хотя руки чесались.
Как-то ночью страдая от ломоты в суставах и непроходящей бессонницы, она сдернула со стены маску, бросив ее в железное ведро. Лена стояла над маской, держа в руке зажигалку, то и дело чиркала ею в темноте. Оставалось поднести огонь к деревянной пластине, и проклятой вещи конец, а возможно и самому проклятью. Что если ведьма не права, и зло сгинет с уничтожением носителя. В конце концов, ей нечего терять. Лена поднесла огонек вплотную, зацепив синеватым пламенем краешек маски. Крашеная деревянная основа занялась не сразу: ворчливо треснула, словно очнулась ото сна, задымила лениво, и только затем полыхнула искра, нехотя перенимая огонь. Сквозь занимавшееся пламя Лена посмотрела в прорези маски – за пустотой ей чудился ливень, костер и пляски юной негритянки. Рука сама потянулась к бутыли с водой. Быстрым движением Лена залила полыхающее ведро, затушив пламя в зародыше. Подняла маску за обугленный край – с той стороны пламя сорвало краску, не затронув остальных частей.
«Чем ты мне так дорога? Почему я не могу от тебя отказаться?» - неведомо кого вопрошала Лена, вглядываясь в чье-то вытянутое лицо, пустоту глазниц. Узнать ответ можно было единственным способом, рассчитывая на «связь в обе стороны». И Лена после долгого перерыва надела маску, хранящую свежие следы воды и огня.
Не хлестал больше ливень в темной ночи. Неторопливо похрустывая, догорал костер. Молодая негритянка не пела, а молча стояла и курила трубку. Лена не боялась смотреть ей в глаза – чего ей было терять?
- Ты все-таки пришла. Я ждала тебя раньше, - заговорила негритянка, и Лена удивилась тому, что понимает незнакомую речь.
- Почему я? В чем я провинилась? Почему ты выбрала меня?
Лена приблизилась к негритянке, и теперь обе женщина: молодая, живая, смуглая и пожилая, бескровная, выпитая, смотрели, как догорает огонь.
- Ты ни при чем. Я тебя не выбирала. Но ты хотела знать о другом…
- Да… - Лене было трудно вспоминать о важном - смоляные ароматы и дым кружили голову. – Почему я не могу избавиться от маски? Связь между нами – почему так дорога?
Негритянка разомкнула губы, выпуская дым кольцами.
- Посмотри! Что ты видишь?
Следуя взглядом за полупрозрачными кольцами, Лена наблюдала, как в воздухе из дыма возникла стройная фигура девушки.
- Я вижу девушку, - ответила Лена, не понимая, к чему этот странный опыт.
Меж тем, фигура не распадалась, продолжая парить в воздухе, подобно призраку в ночи.
- Приглядись! Что ты видишь еще?
- Девушку, - повторила Лена, не представляя, что еще она может увидеть.
- Загляни с другой стороны!
Лена принялась кружить вокруг призрачной фигурки, недоумевая, злясь, до слез, до боли в глазах, пока, наконец, на пике усталости в той же конфигурации дымных колец не разглядела иной образ:
- Так это же старуха! - воскликнула Лена. - Как в одних и тех же линиях может видеться разный узор?
- Всегда две линии, - говорила негритянка. - Всегда и во всем – две. Ты постарела, потеряла. Утрата – всего лишь одна линия из двух. Наша связь – маска – дает возможность отыскать вторую.
Кольца, фигуры, линии, - все порождения дыма, растворились в африканской ночи. Следом растворилась и ночь, оставив одинокий холод квартирных стен и обугленную маску на лице.
Две линии. Линии две… Лена ломала голову. Если она отдала во тьму африканской ночи молодость, красоту, что ценного может она обрести в той ночи? Как разглядеть ту, вторую линию? С этой мыслью уже под утро она засыпала, надев маску. Две линии во всем: есть хорошее – есть плохое, есть девушка – есть старуха, есть…
Тамтамы грохотом взрывали ночной покой. Им под стать не унимался тропический ливень. Но даже ему не под силу было загасить костер, что все ярче и яро раздаривал во тьму разноцветное пламя. Лена танцевала на раскаленных углях, не чувствуя боли. Пламя проникало в ее легкие, не обжигая, будто сама она была огнем, безудержным светом сокрушала темь назло хлеставшему напропалую ливню. Она, открывшаяся миру африканской ночи, отдавшая то, что имела… И мир за гранью реальности открывался ей, предлагая взамен то, что ей причиталось по праву. И многое открывалось в зареве костра. Лена видела сквозь деревья, над ними и дальше, за горизонт: людей, предметы, места, события, - и у всего две линии, и каждая была высвечена, каждая проявлена. Что с самого начало поразило ее в пожилой певунье, что раз от раза заставляло надевать маску, вновь и вновь погружаться в мистерию африканской ночи, то ныне предстало ясным как белый день. Безудержная, дикая, древняя колдовская сила, будучи найденной, узнанной разоблаченной, теперь по праву принадлежала ей.
…Прошедшая ночь не изменила ничего в обличье безвременной старости, но вопреки всему, Лена проснулась полная сил, надежд и ясного знания о том, что следует предпринять. Права была ведьма – процесс необратим, негритянка не вернет краденную молодость. Но кто запрещает последовать ее примеру? Благо, у Лены в достатке сил, да и подходящая жертва на примете.
У Дениса и Анны как раз намечалась свадьба, а у Лены в скором времени был готов подарок. Настал знаменательный день, и когда счастливая новобрачная, опьяненная свадебной шумихой, суетой и комплиментами, распаковывала подарки, на глаза ей попалось чудесное зеркальце в винтажной раме из лакированного черного дерева. Амальгама давала особенный теплый свет, в нем Анна казалась еще более неотразимой, было одним наслаждением всматриваться в зеркальную гладь, в том отражении хотелось тонуть. Анна не ведала, кто подарил зеркало, но изысканный подарок занял почетной место в супружеской спальне.
Что сталось с Анной? На вряд ли стоит поминать о том, мой догадливый и справедливый читатель! Не станем делать выводы и уж тем более судить. Читатель внимателен и помнит: линии всегда две, отчего любая категоричность априори ложь.
Но все же подведем итог и вспомним о героине. Одарив новобрачных зеркальцем, Лена вскорости пошла на поправку. Не прошло и месяца, как она вернулась на работу, отдохнувшая и в прекрасной форме, и охотно со сдержанной улыбкой (не без некоторой доли загадочности) принимала комплименты. Счета были оплачены, и она больше не жалела о том, кто ушел, оставив заместо себя дармовой сувенир – проклятую маску, за которой ей долгое время приходилось скрывать обиду, стыд и одиночество.
В сущности, все мы без исключения носим маски, полагая, что скрываем, а точнее, бережем за ними себя как некую драгоценную жемчужину, пока не наденем последнюю, имя которой Смерть, и лишь тогда прозреваем, с ужасом обнаруживая, что нечего было прятать, наши раковины пусты, и маски – самая что ни на есть непреложная в нас истина из всего жившего на Земле.
30.10.2025
® Ядвига Симанова
Песня Большой Воды
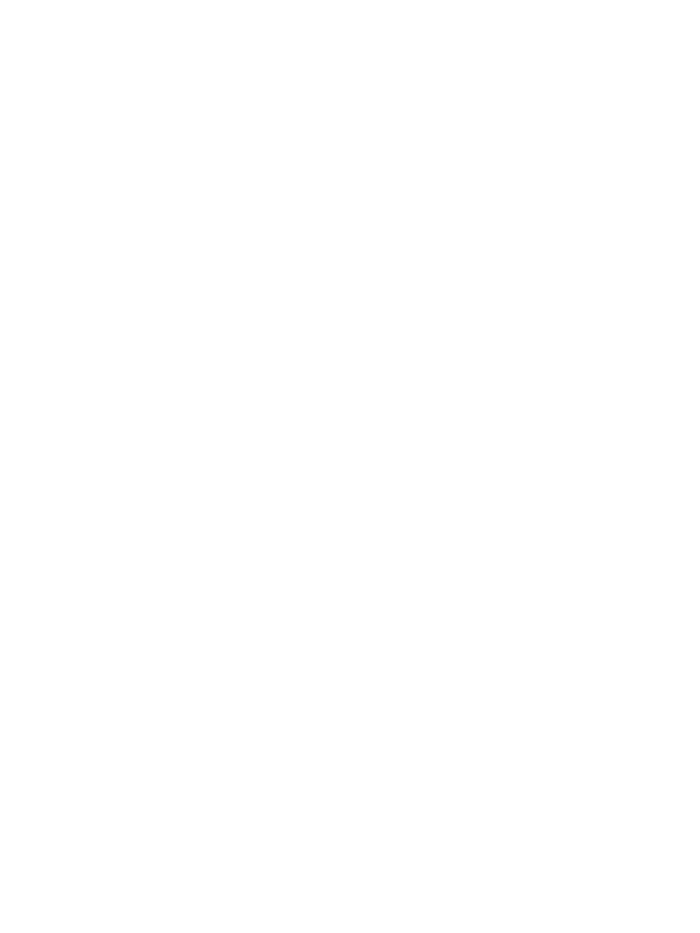
Художник Валентина Симонова
Доводилось ли вам слышать о Пангее? Материке с историей, не имеющей ни начала, ни конца, существующем в вечном продолжении, где за убийственным светом, рассеявшим тьму, восходят новые тени, а бессмертие королей зиждется на одном лишь страхе его потерять.
Там в дремучих болотах среди изгоев, смертных, не жил, а прозябал в ожидании конца лесник по имени Бременгем с женой Дельмой и детьми: старшим сыном и двумя маленькими близняшками. По ночам он обходил дозором границы болот, выполняя наказ короля подмечать все странное, необычное, влекущее угрозу невесть какую и откуда неведомо. Едва ли он был уверен в том, что имея острый слух, превосходное зрение, встретившись с угрозой, сможет ее распознать – коль скоро неопределенное и неведомое может быть также и скрытым от самых чутких ушей и самых зорких глаз. И он бродил кругами по лесам тропами, исхоженными им самим, с мечом, никогда не покидавшим ножен.
Он опасливо косился на заросли гигантских папоротников, проходя у края болот, спешно отворачивался, загораживая слух от низкого, протяжного гудения топи, начинавшегося по обыкновению внезапно. Словно болота ныли от одиночества и, завидев путника, желали говорить. Но лесник не желал внимать их стонам и шел дальше проторенной тропой, где ведом был каждый малюсенький кустик до узнавания даже в кромешной темноте, шел, внимая лишь собственным мыслям.
Он, как и многие, слышал и часто думал о пророчестве, что обещало Героя, который придет с болот и положит конец власти Бессмертных. Судя по всему, предвестников его появления Берменгему и полагалось высматривать в ночном лесу. За работу платили, и он выступал в дозор. Ходить – ходил, но в пророчество не верил: в этих замшелых болотах отродясь ничего путного не водилось – что уж говорить о ком-то, способном бросить вызов правителям Пангеи.
Тем не менее, мысли его были как раз об угрозе – не той, далекой, от неведомого Героя, а той, что медленно подкрадывалась к нему каждый день, обступала кольцом. Угрозу источал сам лес. Будучи от природы осмотрительным, Бременгем, дабы не заплутать, никогда не отклонялся от своего маршрута. И вошедшая в привычку предсказуемость ночного, перетекающего в утренний, пейзажа его вполне устраивала до той поры, пока он не стал примечать в этой привычности некую неестественность и даже фальшь.
«Лес не меняется», - заключил лесник по результатам наблюдений, которые вел на протяжении недели. Дул сухой осенний ветер, порывами сдирая листву, но следующим вечером те же листочки Бременгем обнаруживал среди убранства тех же деревьев, точно пришитыми заново. И новый поток ветра обрывал их с ветвей, и спустя сутки лесник находил их на прежнем месте. Наутро не выступала роса, соломенные травы не гнулись к земле. Каждый осенний вечер провожал тот же пурпурный закат в одинаковый час и ни минутой позже. Казалось, лес застыл в осени навечно, и не было ей конца. Разве что болота пугали гулом всегда неожиданно. Да и та внезапность стала по-своему привычной, столь же неизменной, как осень и скованный ею лес.
Бременгему не с кем было поделиться мыслями – не стоило беспокоить родных несущественными и, вероятнее всего, беспочвенными тревогами. Не находя объяснений странной неизменности леса, он волей-неволей думал о ее причинах. Беспокойство становилось навязчивым, порой ему казалось, он сходит с ума.
Тогда он придумал выход, представлявшийся единственно возможным и оправданным логически: изменить что-то самому. Впервые за годы службы он решил отклониться от маршрута. Старый знакомый, пурпурный закат, по-особенному тревожно и медленно опускал на землю занавес, словно предупреждая, отговаривая, или лесник только теперь разглядел в нем советчика, или совет ему лишь померещился – ведь те же краски от вечера к вечеру появлялись и таяли неизменно. И Бременгем свернул с тропы, двинувшись навстречу уплывающему за горизонт пурпурному шару, мечом сражая непроходимые заросли, держался западной стороны.
Вскорости усталое солнце и вовсе исчезло из виду, а оставшийся без присмотра лес укрылся в тенях непроглядной ночи. Бременгем шел вперед, пока что не понимая, а лишь желая понять, почувствовать, меняется ли мир вокруг, или он проходит тот же замерший лес неизведанным доселе путем, что не прибавляет жизни ни лесу, ни путнику.
За время повторений исхоженного пути все то в лесу непознанное, время от времени напоминавшее о себе мучительными для слуха и ужасающими воображение звуками, далекими, не относящимися к самому существу под именем Бременгем, принимались им за нереальное, то есть не имевшее и не способное иметь сколько-нибудь значимое влияние на его бытие. И теперь проникнув вовнутрь, в самую сердцевину леса, Бременгем очевидно не ожидал столкнуться с тем, что доселе считал вымыслом.
Внезапность! Когда-то отдаленно касавшееся слуха гудение в лесных дебрях сильнее и явственнее нагнетало страх и вдруг отозвалось громом посреди ясной ночи, дрожь земли обездвижила тело, комок леденящего ужаса застыл в горле, неспособном выдавить крик. То ли появление путника пробудило чудище, обитавшее в сердце болот, то ли сам путник ненароком застал час его пробуждения, - так или иначе почва стремительно проседала под ногами лесника, под низким давящим гулом, идущим из глубины недр.
Лесник был уже по колено в болотной жиже, когда обнаружил, что все вокруг пузырилось и булькало. Он хватался руками за кусты – все подряд, какие удавалось поймать, но и те мгновенно заглатывала ненасытная бурлящая жижа. Он зачем-то скинул с плеч узелок, тот, что все время носил с собой, отбросив на сушу, на безопасное расстояние, как казалось ему, и все время смотрел на него, пытаясь выкарабкаться сам. Мимоходом он заприметил возле узелка черную птицу (должно быть, вОрона), которая на удивление проворно принялась «строчить» клювом по веревкам, потихоньку ослабляя узел.
«Пшшшла прочь», - тяжело дыша приговаривал Бременгем, едва сумев ухватиться за обрубок поваленного дуба, ответствовавший натиску угодившего в топь лесника ворчливым треском. По-видимому, птица невысоко оценивала шансы человека выбраться из трясины, потому как благополучно справившись с завязками, как ни в чем не бывало по-деловому сосредоточенно потрошила узелок. Тем самым волей-неволей птица будила в человеке дремавшее без цели чувство ярости, граничащее с лютой ненавистью. Он кипел злостью, отвергая все и вся: проклятый лес, ненасытную топь, наглую пернатую, и главное, безвременную смерть, подступавшую ближе и ближе.
То ли болото, распаренное в кипятке ярости, как-то само собою высохло, то ли мертвое дерево, отплевываясь влажной корой, вытянуло-таки лесника на сушу, Бременгем вдруг обнаружил себя прямо у узелка, присвоенного нахальной птицей. Он лежал ничком на сырой земле, вдыхая зловоние потревоженной гнили стоячих вод. Неужто выбрался? Перевел дыхание, но сколь ни старался, не мог унять отчаянно бьющееся в груди сердце. Он поднял голову. Взгляд остановился на узелке что он так яростно жаждал спасти. На что он сдался леснику? Выпотрошенное содержимое узелка разбросало по илистому берегу: ломоть хлеба, трубка и кисет для табака, холщовый мешочек с огнивом, фляга с водой, да ключ от дверного замка.
«Да ведь это вся моя жизнь…» - философски заметил Бременгем, оглядев нетронутые вороном (все-таки это был он) вещи. Потянулся к мешочку, с помощью огнива поджег трут, прикурил трубку.
Все это время ворон, занявший трухлявый сучок того самого спасительного дуба, не сводил с лесника внимательных глаз. В отличие от ворона рассиживаться леснику было некогда. Промокший насквозь он начинал подмерзать. Стоило ему, собрав с земли вещи и уместив их обратно в узелок, выдвинуться от болота как пернатый наблюдатель не преминул последовать за ним.
«Небось, помышляет поживиться, ежели меня снова угораздит провалиться в трясину. Нетушки – такого удовольствия я ему не доставлю», - рассуждал Бременгем. Хорошенько поднатужившись, отломил от поваленного дерева здоровенный сук, с помощью него обследовал почву перед тем, как сделать следующий шаг.
Растерявшись впотьмах, он не сориентировался, с какой стороны болота вылез и не знал, куда дальше держать путь. Решил идти строго прямо – по его расчетам, если он, не отклоняясь, будет двигаться по прямой линии, то рано или поздно выйдет на тропу, годами по кромке леса исхоженную им самим.
Так он шел напрямик с узелком за плечами, палкой прощупывая почву, мечом срубая паутину непроходимых зарослей, не петлял, не сворачивал. Шел… И час шел чередой за часом, но искомая тропа все не появлялась. Он уже не пробовал почву, а, обессилив, опирался на палку, как на костыль.
Что-то заставило его остановиться: похоже, там, вдали обозначился рассвет. Так решил Бременгем, коль скоро деревья впереди приобрели ясные очертания, а сквозь ветви в вышине проступала белизна облаков. Поддавшись порыву, забыв об осторожности, он отбросил «костыль» и со всех ног ринулся вперед. Но вскоре вновь застыл как вкопанный. Так как встретил он вовсе не рассвет – свет был холоден, и отражала его белизна искрящегося снега, который он издали принял за облака. Здесь заканчивался лес и перед взором расстилалась снежная равнина под звездным небом ясной нескончаемой ночи.
Бременгем, разочарованный и очарованный одновременно, завороженно оглядывал простор. Рядом на снег, не таясь, приземлился осмелевший ворон.
«Мир меняется…Там настоящий мир… - лесник указал рукой вперед навстречу снегам. – В тот мир давно пришла зима. Я знал. А это, - лесник ткнул пальцем в сторону леса, - обман, химера». Он говорил неизвестно с кем, должно быть, сам с собою, не ожидая ответа. Тем сильнее встрепенулся он продрогшим телом, услыхав невесть откуда взявшийся голос:
- Ты хочешь знать, где потерянная тропа?
- Я хочу знать, где запад – неожиданно для самого себя ответил Бременгем.
И словно откликом на сказанное им в заснеженной дали расступился туман, обнажив нависавший над землей солнечный диск, тот заливал линию горизонта едким пурпуром.
«Снова закат… Или я сутки блуждаю по лесу», - говорил себе Бременгем, не сводя глаз с ворона, который будто застрял когтями в снегу и поминутно вертел головой: то оборачиваясь назад, то выжидательно поглядывая на человека. Поведение ворона заставило Бременгема оглянуться – позади остался задремавший, так и не дождавшись прихода зимы, лес. Краски уснувшей осени в изобилии застлали окружную тропу, окаймлявшую опушку, но это несомненно была она, тропа, годами исхоженная лесником, ее невозможно было не узнать. Оставалось дивиться: как Бременгем не приметил ее сразу? Теперь известен путь домой, и можно возвращаться проторенной дорогой.
Но Бременгем не спешил поворачивать. Не спешил к Дельме, ребятишкам, - от них, от одури повторявших друг друга дней он еженощно уходил в дозор, где едва не тронулся умом, наблюдая лес, закоченевший в вечной осени. Тому миру, куда он мог вернуться, нечем было его удивить – только свести с ума недвижением. Не от лесного болота несло затхлостью – вовсе нет (во всяком случае, не от него одного), а от всего мира, его мира, что сам он закольцевал вновь найденной, но отныне ненавистной тропой вокруг проклятого леса, где он все знал наперед, и это знание год за годом угнетало его. В то время, как неизведанное, нечто несоизмеримо большее, переменчивое как все настоящее, ускользало с уплывающим за горизонт пурпурным заревом запада среди звезд, рассеянных по небу торопливой ночью.
Повинуясь нахлынувшим чувствам, о коих не подозревал ранее, в предвкушении неизведанного он было двинулся на запад, навстречу снегам, но подкравшаяся к сердцу дрожь остановила, и он не сумел сделать шаг. Его до костей пронял холод. В мокрой одежде далеко не уйти.
Похоже, он чересчур громко думал, или же ворон, до поры не покидавший насиженного в снегу места, вдруг ни с того ни с сего сорвался ввысь, нацелился немного в сторону и точнехонько опустился на какое-то престранное дерево. Одиноко раскорячившись, оно громоздилось у белой полосы, и было оно сплошь засыпано снегом.
Бременгем подошел ближе, прогнав ворона, стряхнул снег и ахнул от удивления: «Никакое это не дерево, а пугало! Пугало и есть!». Расклешенное пальто с залатанными грубыми стежками рукавами болталось на длинной жерди, поверх которой нахлобучена широкополая шляпа. Бременгем прикоснулся к плотной ткани: влажное снаружи от снега, внутри пальто оказалось сухим и довольно-таки теплым наощупь. Не раздумывая, Бременгем снял вымокшие одежды, бросив старье на снег, а сам облачился в наряд пугало. «Пускай чучело, зато в тепле», - приговаривал бывший лесник, напяливая заодно и шляпу.
Шутовской наряд прибавил ему задора и прыти – Бременгем весело поспешил на запад, как вдруг остановился, спохватившись – ведь вместе с одеждой он скинул и узелок. Оглянулся – над узелком кружил приятель – ворон, не пытался выпотрошить содержимое, даже не трогал веревки – просто кружил, а затем взмыл в вышину и вскоре, опередив человека, уже летел на покидающий землю закат.
«Видно, и тебе моя жизнь больше ни к чему…Раз так, то и мне не стоит сожалеть о былом», - проворчал Бременгем и, примирившись с утратой, двинулся дальше. Задора, заимствованного от «обновок», хватало пока снег был по щиколотку. Когда же сугробы достигли колена, и снег холодными комьями стал забиваться в сапоги, а горизонт исчез за белой пеленою тумана, Бременгема охватила паника. «Я всегда могу … вернуться», - утешал он себя неуверенно. Страх заставил обернуться. Тот же страх сомкнул ему веки, не давая смотреть. Великим усилием воли Бременгем распахнул глаза: что виделось позади? Ни намека на покинутый лес – слепящая гладь снежной равнины – куда ни посмотри!
В отчаянии Бременгем зарыдал, а тело его в каком-то своенравном безумии принялось вертеться на месте волчком. Неистово кружилась голова, перемешивая мысли, и землю, и небо. Снежный полог оказался наверху и, соединившись с необычайно низкими звездами, накрыл Бременгема. Все в его уме соединялось со всем. Так стирались границы…
Очнувшись, он смотрел вокруг и не понимал, где кончается он сам, а где начинается снег, россыпь звезд на черном саване неба и где-то в вышине летящий ворон, - все сливалось в единое целое, все единилось с ним, было им, и он был всем, что только был способен охватить взгляд, всем, что хоть краешком могло коснуться его чувств и даже больше: он был всем, что когда-либо видел и чувствовал, а также тем, что ему еще предстояло познать. Ни влажные комья в сапогах, до онемения морозящие пальцы, ни сугробы, ни вдобавок хлынувший ледяной ливень, как лезвием полосовавший кожу, - ничто больше не было помехой, коль скоро, будучи неотделим, он сам являл собою средоточие помех.
Он выдохнул, отдавшись безразличию и усталости, и разлепил глаза. У края западной стороны он узнавал Большую Воду. За слегка припудренным поземкой голубым сиянием льда, что искусно прикидывался равниной снега, открывался океан. И нет - закатное солнце не уходило – оно погружалось… В слепящий синевой, глубже всех на свете морей, средоточие неудержимой силы, всесокрушающей и освобождающей, океан забвения, океан Хаоса…Касание приливных волн позволяло слышать его музыку. Звук доносился из неисчерпаемых глубин, и волны уносили Бременгема туда, где кончается звук, подобного которому не существует нигде на Земле.
Сложно было представить себе, что есть нечто большее, сильнее и глубже океана, но песнь Большой Воды обещала, что есть. И Бременгем хотел знать, а следуя за звуком, понял, что других желаний не имеет. В монотонном дребезжании, подобно усидчивому рыбаку у мутной воды, он улавливал обрывки фраз: голоса миров, неизвестные наречия. Будто невидимые двери открывали перед ним сокровища, богатство которых не снилось и королям, шедевры искусства за гранью изящества, сверх всякого мастерства, доступного постижению разумом человека, дворцы изысканной архитектуры, высотой достигавшие престола небес, и людей, много людей и столько же судеб, и Бременгем постигал каждую из них, будто проживал сам.
Образы менялись. Едва узнанные, растекались по океану, утрачивая целостность и форму, и тотчас на их месте возникали другие, и те столь же стремительно расходились кругами по воде. Перед ним проплывали тысячи книг, и он жадно зачитывал каждую как кладезь бесценных знаний различных миров и его мира, в частности.
Он видел множество воинов, но невзирая на их доблесть и бесстрашие, ни один не годился на роль обещанного легендой Героя, способного повести за собой изгоев с болот и сокрушить властителей Пангеи. Тем не менее Герой был узнан. И бывший лесник от души смеялся над собою прежним и так же от души рассмеялся бы в лицо скудоумным властям, допускающим хоть на миг мысль о том, что Героя можно остановить. «Ни одна мать не выносит такое дитя…, - приговаривал Бременгем, смеясь, - Если будущего Героя и родит болото, то настоящим он выйдет только изокеана – лишь в водах Хаоса множество судеб сольются в одну».
Знаний, почерпнутых из глубин, хватило бы на несколько жизней – Бременгем не мог не поддаться порыву изменить хотя бы одну. Глупо было позволить, чтобы добытые из вод знания пропали зря: его семья, - Дельма и ребятишки, заслуживали лучшей жизни. В его уме вырисовывался четкий план: как, предложив королю Пангеи знания других миров, он заслужит почет, переберется с семьей из болот в столицу, где они вместе заживут наравне с Бессмертными, а того и гляди, сами бессмертие обретут. Тогда он впервые за все пребывание в водах задумался о пути назад.
Впереди кристаллами льда застыли воды, где в ледяных скульптурах запечатлели себя осколки миров: будущее - непроявленная, скованная в ожидании своего часа сила. Бременгем понял, что это будущее, так как вдруг увидал в кристаллах себя: изможденного, старого, в рваной одежде, ни живого, ни мертвого – но…безумного, с затуманенным взором, обращенным в никуда. Его туловище раскачивалось туда-сюда в ритме, который задавал странного вида музыкальный инструмент[1], - старый безумец самозабвенно играл на нем, прижимая к губам.
Он ужаснулся увиденным. Сияние запада вмиг утратило привлекательность. Он жаждал вернуться, чтобы вернуть и не допустить. Но как капле не изменить течения реки, так и Бременгему не суждено было повернуть воды океана вспять. Несмотря на то, что ему довелось черпать из колодца премудростей всех миров, каким он все же оставался наивным, если мог вообразить, что сможет выстоять против течения вод Хаоса и даже пойти наперекор им.
Он обернулся, и течение встретило его безудержным ревом всеохватной силы и… сокрушило, всей тяжестью ледяных волн пригвоздив к самому дну. Бременгем думал, что сумеет встать, опереться ногами-руками о песчаное дно, оттолкнуться и всплыть. И тут он столкнулся с новым потрясением. Думать – подумал, а как дошло до дела…Тех самых рук, ног, о которых думал, - оказалось, что их нигде не видать: остались от них лишь призрачные чувства, воспоминания об усталости и боли, да мыслеформы, что возникали в той же памяти, в ней родимой и…нигде более, ни здесь, ни сейчас. И то не могло считаться верным, потому как Хаос (где нет ничего постоянного) не признает никакого «здесь» и «сейчас».
«Как давно я вошел в океан?» - задавался вопросом Бременгем.
- Ты шагнул в океан, когда оставил узелок у опушки, - в песне Большой воды он расслышал ответ. – По доброй воле отказался от того, что составляло тебя самого. Все, что попадает в океан, становится его частью, нераздельной с ним, исчезая как самое.
Как заблуждался он, когда, как мнилось ему, очнувшись в снегах, не в состоянии различить границ себя самого и видимого им мира, вообразил, что он – и есть мир. Нет, увы, все было с точностью до наоборот. Границ не существовало, потому как он сам, Бременгем, бывший лесник, перестал существовать, в отличие от мира, снегов и бесконечного океана с неисчерпаемыми знаниями, вдохновенными образами, невоплощенными идеями, отголосками великого множества разумов, осколками судеб, - существовало все: и пурпурный диск, уплывающий на запад, - все в закатном блеске западной стороны, - все, кроме него самого.
«Но кто в таком случае сознает, понимает, желает изменить мир, людей, что опрометчиво оставил? Кто задает вопросы, вопреки данному обещанию, сожалея о былом?»
- Все просто, - кому-то отвечали воды. – Океан. Ты постигал тайны других миров. Они открываются каждому, ступившему в океан, каждой частице целого океана. И твои воспоминания, мысли, чувства, весь опыт, скопленный за жизнь, - твой «узелок», как те книги доступен каждому, кто входит в океан. И ты как те, теперь читаешь свою книгу сознаешь себя, как будто все еще жив и ходишь по земле, читаешь, сам являясь частью целого океана, как любая другая его часть. Океан позволяет памяти Бременгема быть.
Но Бременгем (или же то, что помнило о нем) не хотел быть, он не соглашался просто довольствоваться знаниями, сознавая их бесполезность. Он хотел проявить. И зная многое, понимал: для того, чтобы проявить почерпнутое из Хаоса нужен человек – не мудрец, не Герой – просто человек из плоти и крови, что ходит по земле и дышит воздухом, а человеком Бременгем уже не был.
- Возврата нет? – в который раз допытывался он у вод.
- Лесник по имени Бременгем разметал себя на части в океане – вновь отвечали терпеливые воды. – Из частей не собрать целое. Что вернется – никогда не будет Бременгемом. Вне океана разрозненные лоскуты памяти не собрать воедино. Разум в целости не возвратить.
Бывший лесник упорствовал, будоража волны:
- Значит, надо найти исток. Откуда-то ведь все это берется? - Он смотрел на далекие льдины, высвеченные спящим на дне солнцем запада. – Всему есть начало. И океану… И где-то, может быть, за океаном, есть нечто большее, есть настоящий мир, настоящий я…
Воды хранили молчание. Бременгем решил, что нащупал суть. Ему снова слышалась музыка. Теперь звук проходил сквозь него, пронзая насквозь, монотонно дребезжал, выставляя напоказ его полую суть, пустоту, заполняемую переменчивыми образами текучей воды. Бесполезно вступать в противоборство с Хаосом – с ним можно только слиться. И Бременгем, а точнее то, что представлялось им, отдался океану, растворился в потоке глубоководья, чтобы иметь возможность коснуться каждой из его частей и отыскать исток, следуя зову музыки.
Звук нарастал, громче и громче, довлел, оглушая, и, наконец, сделался невыносим настолько, что даже волны бежали от него, оставляя пропасть. И в этой зияющей дыре на краю океана в слепящем сиянии уснувшего на дне солнечного диска источник звука обретал форму: за перепуганными песчинками показался предмет, похожий на ключ, его металлический язычок дрожал, заставляя расступаться волны, - предмет открывал двери миров.
Пораженные звуком, осколки сознания Бременгема распадались, гонимые набежавшими волнами к трескучим льдам запада - он понимал и принимал цену- ради единственной заветной цели – войти в открытую дверь, выбраться из вод, забрав то, чего способен коснуться, и… будь что будет!
В потоке единения всего со всем, где личное стирается, поглощенное чем-то большим, становясь частью той самой единой всепоглощающей силы, Бременгем мог постичь суть любой вещи, как постигал знания из открывшихся ему книг, будучи бесформенным, ничем и никем, обрести любое угодное свойство, принять любую форму. Забавно, но из всего возможного память Бременгема, принадлежавшая океану, напоследок явила образ ворона с болот, что навязался ему в провожатые…
Так во впадине на песчаном дне дотянулся он до источника песни Большой Воды, порывом духа тронул металлический язычок, отворяя дверь. Так в крике ворона он узнал собственный. И крик, соединившись с оглушительным монотонным гудением диковинного инструмента, разрывали слух, рассекали волны, пространство и время на «до» и «после».
***
Ворон парил над водами, держа курс на восток, прочь от голубого сияния льдов западной стороны. Он не знал большего счастья, чем вот так свободно пролетать над океаном, не касаясь воды, отражаться в ее зеркалах. Он откуда-то знал: глубина – смерть, а свободный полет не может длиться вечно – он искал берег. И берег явился ему землей, запорошенной инеем, в сумерках наступившего утра и деревьями, голыми и смурными, без счета. У опушки были разбросаны вещи. Ворон кружил над ними со странным чувством, что вещи принадлежали ему. Неумолимо утекало время, не давая ворону как следует поразмыслить – время возвращало человека…Вряд ли человек помнил имя, на которое мог бы откликнуться, позови его кто – имя унесли воды. Он был в обносках, усталый и грязный, на коленях – старый узелок и в нем – ничего, разве что кроме странной штуковины, похожей на ключ. Человек приложил вещь к губам и пальцем тронул металлический язычок – инструмент задрожал, и дрожь отзывалась музыкой, да не только в нем: звук касался всего, что он видел и чувствовал вокруг и даже за пределами всякой видимости и чувств.
Человек не помнил ни имени, ни рода, ни семьи. Как и ворон, он двигался на восток, через лес, замерший в вечной осени. Его разум со всеми знаниями, идеями, смыслами остался в океане навсегда. С «ключом», открывающим двери, ворон вынес крупицы: о них помнил, думал человек, бредущий через лес. Думал о том, что есть один мир – настоящий, все другие… - он не помнил о них… Думал о неведомом Герое, слепленном из осколков. Знал, что, играя музыку, может открывать двери, но не знал, куда и зачем. Он шел, играя, из мира в мир, понимая, что где-то есть настоящий, в негасимой надежде, что в свободном полете возносил к небесам черный ворон, когда наставал его черед.
03.02.2026
® Ядвига Симанова
[1] Здесь и далее под музыкальным инструментом автор подразумевает варган
